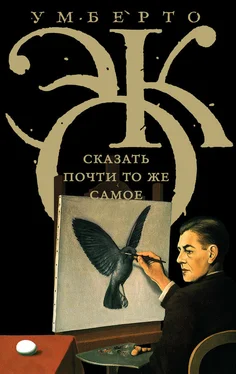Как и всякая интерпретация, эта адаптация – предмет дискуссии; но зачастую таковы и жесты дирижера оркестра, энергично размахивающего руками, иногда напевающего вполголоса, пыхтящего и мычащего, чтобы побудить исполнителей уловить тот способ, которым, согласно его интерпретации, должно исполняться произведение. Жесты дирижера – это интерпретация партитуры. Никто не дерзнул бы сказать, что они суть ее перевод в том смысле, в каком им является транскрипция «Сюит для виолончели соло» в «Сюиты для альтовой флейты».
13.4. Показать то, что не сказано
Стайнер (Steiner 1975: 14) размышляет о том, как Данте Габриэль Россетти перевел в стихотворение картину Энгра, и приходит к такому выводу: происходящие при этом вариации «сигнификата» приводят к тому, что оригинальная картина предстает всего лишь как повод [249]. А что произошло бы, если бы на воображаемом научно-фантастическом международном конкурсе «Кошек» Бодлера «перевели» в картину маслом Джотто, Тициан, Пикассо и Энди Уорхол {♦ 183}(я бы добавил сюда и Лоренцо Лотто, который в своем «Благовещении» изобразил великолепного кота, пересекающего комнату)? А если это стихотворение «перевести» в гобелен, в мультфильм, в барельеф, в скульптуру из марципана? Переходя к семиотической системе, абсолютно «иной» по сравнению с системами естественных языков, интерпретатор должен будет решить множество вопросов: где сидят бодлеровские «суровые ученые» (savants austères) – в просторной и холодной библиотеке, в тесной комнатке, как философ у Рембрандта, или перед пюпитром, как святой Иероним? А кот – будет ли он сидеть у ног, как лев у ног Отца-Переводчика Священного Писания? А как одеты ученые: в просторные сутаны, как Эразм у Гольбейна {♦ 184}, или в узкие рединготы? И как показать их суровость: окладистыми седыми бородами или же посредством пенсне?
* * *
Капреттини (Caprettini 2000: 136) анализирует экранизацию «Женского портрета» Генри Джеймса, осуществленную Джейн Кэмпион {♦ 185}. Капреттини следит за всеми изменениями оригинального текста, которые, разумеется, превращают фильм в переработку или в новое прочтение литературного произведения, и его интересует то, каким образом эти изменения так или иначе сохраняют некоторые основополагающие черты романа. Но я хотел бы задержаться на том, что́ в литературном тексте говорится о героине Изабелле: «Смотреть на нее было приятнее, чем на большинство произведений искусства» (She was better worth looking at than most works of art). He думаю, что Джеймс просто-напросто хотел сказать, что лучше было созерцать и желать желаннейшую Изабеллу, чем попусту тратить время в музее: он, конечно, имел в виду, что героиня была наделена очарованием многих произведений искусства и, как я полагаю, многих художественных изображений женской красоты.
Придерживаясь воли Джеймса, я могу воображать себе Изабеллу как «Весну» Боттичелли, как Форнарину, как Беатриче прерафаэлитского склада или даже (de gustibus… [250] * ) как одну из авиньонских девиц. Каждый может развивать намек Джеймса в соответствии со своим идеалом – как женской красоты, так и искусства. Но в фильме Изабеллу играет Николь Кидман. Я обожаю эту актрису и, несомненно, считаю ее настоящей красавицей, но думаю, что фильм получился бы иным, если бы у Изабеллы было лицо Греты Гарбо или рубенсовские формы Мэй Уэст. Таким образом, за меня решил режиссер.
Перевод не должен говорить больше, чем оригинал, то есть он обязан соблюдать умолчания текста-источника [251] 1 .
* * *
Многим известно, что в «Моби Дике» Мелвилл ни разу не говорит о том, какой ноги нет у капитана Ахава: правой или левой. Можно спорить о том, насколько важна эта деталь для создания атмосферы двусмысленности и тайны, окружающей этого героя, – но если Мелвилл об этом умолчал, у него, видимо, были на то свои причины, и их следует уважать. Когда Джон Хьюстон «переводил» этот роман в фильм {♦ 186}, ему нельзя было не сделать выбор, и он решил, что Грегори Пеку должно недоставать левой ноги. Мелвилл мог обойти это молчанием, а Хьюстон – нет. Таким образом, фильм говорит нам больше, чем роман, каким бы это откровение ни было.
* * *
В 10-й главе «Обрученных», после долгого рассказа о том, как бессовестный Эджидио соблазнял Монцскую монахиню, Мандзони, проявляя крайнюю стыдливость, сообщает о падении монахини одной-единственной краткой фразой: «Несчастная ответила» (La sventurata rispose). В дальнейшем роман переходит к рассказу о переменах в поведении бывшей монахини и о том, как стремительно скатывается она к преступной жизни. Но то, что произошло между моментом ответа и дальнейшими событиями, обойдено молчанием. Автор сообщает нам, что монахиня уступила, и вся тяжесть этой уступки выражается словом «несчастная», содержащим в себе одновременно и строгое нравственное суждение, и человеческое сострадание. Требуется сотрудничество читателя, призванного «разговорить» это умолчание, превратить эту краткую фразу в источник многообразных предположений.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу