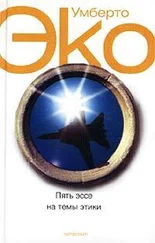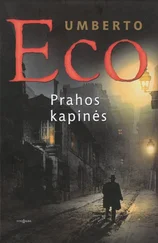Но теперь зададимся таким вопросом: что произойдет, если кто-нибудь захочет перенести «Ворона» с естественного языка в изображение, «перевести» его в картину? Возможно, художник сможет внушить нам эмоции, близкие к тем, что вызывает стихотворение: такие, как ночной мрак, меланхолическая атмосфера, смесь ужаса и неутолимого желания, снедающего любящего, контраст между белым и черным (причем художник сможет заменить бюст статуей в полный рост, если это будет ему нужно, чтобы подчеркнуть эффект). И все же в картине придется отказаться от передачи того неотступного чувства угрозы (повторяющейся раз за разом) невосполнимой утраты, внушаемой словом nevermore.
Может ли картина сказать нам что-нибудь о Линор, столь настойчиво призываемой в тексте? Возможно, если художник изобразит ее в виде белого призрака. Но это неизбежно будет призрак женщины, а не какого-то иного создания. И здесь нам придется увидеть (или, выражаясь иначе, художнику придется заставить нас увидеть ) некий зрительный образ той женщины, которая в литературном тексте появляется как чистый звук. По меньшей мере в этом случае имеет силу различение между временны́Âми и пространственными искусствами, проведенное Лессингом {♦ 180}. А иметь силу оно будет потому, что при переходе от стихотворения к картине произошло изменение материи.
* * *
Возьмем иллюстрации, сопровождающие немецкий текст старинной книги Struwwelpeter Хоффманна {♦ 181}(шедевр детской литературы XIX в.), в которой говорится: Die Sonne lud den Mond zum Essen («Солнце-женщина пригласила Месяц на обед»). По-итальянски эта фраза станет такой: IL Sole invitò LA Luna a cena («Солнце-мужчина пригласил Луну-женщину на обед»). При этом останется в стороне тот факт, что «Солнце» по-немецки женского рода, а по-итальянски – мужского (то же самое произойдет с французским и испанским, тогда как по-английски проблемы не возникнет и перевод будет таким: The Sun invited the Moon to dinner). Но текст сопровождается иллюстрацией, сохранившейся неизменной в любом издании на других языках, где Солнце изображено в виде дамы, а Луна – в виде кавалера, и это выглядит весьма странно для итальянских, французских и испанских читателей, привыкших считать Солнце мужчиной, а Луну – женщиной.
* * *
Предлагаю показать англоязычному человеку знаменитую «Меланхолию» Дюрера и спросить, что за женская фигура на ней изображена: сама Меланхолия или же меланхолическая женщина, символизирующая Меланхолию. Думаю, англоязычный читатель скажет, что имеется в виду женская фигура (меланхолическая), метонимически воплощающая собою то абстрактное (и бесполое) существо, каковым является Меланхолия. Итальянец и немец скажет, что здесь речь идет об изображении Меланхолии как таковой, поскольку как итальянское malinconia, так и немецкое Melancholie — слова́ женского рода.
* * *
Многие итальянские зрители помнят, как они смотрели фильм Бергмана «Седьмая печать», где появляется Смерть, играющая с главным героем в шахматы. Это Смерть (женского рода)? Нет: зрители видели перед собой Смерть (мужского рода). Если бы речь шла о словесном тексте, о переводе в пределах одной и той же звуковой материи, тогда немецкое слово der Tod («Смерть», мужского рода), равно как и его шведский эквивалент, d́öden (тоже мужского рода) [248], перевели бы на итальянский как la Morte (или la Mort — на французский и la Muerte — на испанский). Напротив, столкнувшись с необходимостью показать эту Смерть посредством зримых образов, Бергман под влиянием словесных автоматизмов вынужден был вывести ее мужчиной, и это поражает любого итальянского, испанского и французского зрителя, привыкшего представлять себе Смерть как существо женского пола. А тот факт, что для итальянцев, испанцев и французов эта странная и неожиданная фигура Смерти усиливает впечатление страха, которое, несомненно, хотел внушить кинематографический текст, – это, так сказать, «дополнительная ценность». Показывая смерть в мужском обличье, Бергман не стремился нарушать привычные коннотации, определяемые лингвистическими автоматизмами предполагаемого адресата (не хотел ошарашивать его); но, если говорить о французе, итальянце или испанце, этот образ (который в силу парасинонимии не может отсылать к своей возможной вербализации) приводит к прямо противоположному результату и добавляет элемент остранения. Представляю себе чувство замешательства, которое испытал бы старый фалангист, шедший в битву с криком Viva la muerte! («Да здравствует смерть!», исп.) и, как настоящий воинственный мачо, мечтавший о соединении с женским существом, с прекрасной и ужасной любовницей. Представляю себе, как обескуражен был бы этот мачо, узнав, что ему придется, ликуя, соединиться со старым господином, лицо которого вымазано косметикой.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу