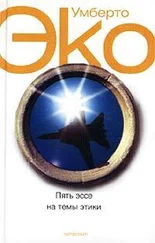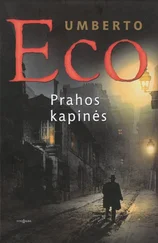Отметим, что сила этой фразы заключена не только в ее многозначительной уклончивости, но и в ее ритме. Здесь налицо двойной дактиль, за которым следует спондей (или хорей, поскольку ultima syllaba non curatur [252] * ): – ∪ ∪, – ∪ ∪, —. – Так вот, французский перевод Ива Бранка́ гласит: L’infortunée répondit («Несчастная ответила»), и такой вариант не только сохраняет семантику, но и схож с оригиналом по метрической структуре. Английский перевод Брюса Пенмена: The poor wretch answered him («Бедняжка ответила ему»). Есть два немецких перевода; один из них, Эрнста Виганда Юнкера, таков: Die Unselige antwortete («Злосчастная ответила»); другой, Буркхарта Кребера, гласит: Die Unglückselige antwortete («Несчастная ответила»). Мне кажется, в обоих вариантах наряду с семантикой был соблюден и некий ритм. Как бы то ни было, во всех этих случаях умолчание осталось в силе.
А что произошло бы, если бы эту страницу нужно было перевести в фильм? Даже не так: что произошло , если учесть, что уже есть несколько кинематографических и телевизионных версий романа Мандзони? [253]Сколь бы ни был стыдлив режиссер, в любом случае он должен был бы дать нам увидеть кое-что большее по сравнению с вербальным текстом. Между тем моментом, когда Эджидио в первый раз обращается к Монахине с речью, и ее последующими преступлениями этот ответ должен был проявиться в каких-то действиях, пусть даже намеком: в жесте, в улыбке, в блеске глаз, в дрожи – если не в чем-то большем. В любом случае было видно нечто, говорящее о страстности ответа, тогда как вербальный текст хранил в этом отношении неопределенность. В туманности, скрывающей возможные действия женщины, продиктованные страстью, одно из них с неизбежностью было избрано как наиболее подходящее, хотя совершенно ясно, что Мандзони хотел оставить за читателем неотчуждаемое право сделать тот или иной выбор или же не делать никакого – в зависимости от того, что подскажет ему милосердие.
* * *
Предположим, есть некий роман, повествующий о двух друзьях-приятелях, которых во времена Террора ведут на гильотину: одного – потому что он легитимист-вандеец, другого – потому что он друг Робеспьера, впавшего ныне в немилость. Об обоих роман сообщает, что они идут на казнь с бесстрастным лицом, однако благодаря некоторым умолчаниям и тонко рассчитанным намекам мы остаемся в неведении относительно того, отрекся ли каждый из них от своего прошлого, отправляясь на смерть. Намерение автора состоит именно в том, чтобы внушить нам атмосферу неуверенности и растерянности, в которую в этом ужасном 93-м году погрузились все без исключения.
А теперь «переведем» эту сцену в фильм. Допустим, можно передать бесстрастность обоих осужденных, и лица их не выказывают никаких эмоций – ни раскаяния, ни отваги. Но в романе, положим, ни слова не говорилось о том, как они одеты, а вот в фильме это придется так или иначе показать. И что же – легитимист будет одет в панталоны ( culottes ) и камзол, служившие знаком принадлежности к его касте, подтверждая его верность тем ценностям, в которые он верил, а якобинец дерзновенно предстанет в одной рубашке? Или же они поменяются ролями (что кажется маловероятным, но не невозможным), и якобинец вновь обретет свою аристократическую отвагу, облачась в панталоны, а вандеец утратит все характерные черты своего облика? Или, может быть, оба они будут одеты одинаково, чтобы тем самым подчеркнуть, что теперь они равны (и таковыми себя чувствуют), что оба они – жертвы одной и той же бури?
Как мы видим, переход к иной материи вынуждает навязать зрителю фильма некую интерпретацию, относительно которой читателю романа было предоставлено больше свободы. Вполне возможно, что фильм, используя собственные средства, возместит утрату двусмысленности до этой сцены или после нее, причем там, где роман был более эксплицитным. Но это предполагает манипуляцию, назвать которую «переводом» было бы рискованно.
* * *
Возвратимся к личному опыту. Когда я писал роман «Имя розы», действие которого разворачивается в средневековом аббатстве, я описывал ночные сцены, сцены в закрытых помещениях и на открытом воздухе. Я не предусматривал никакого общего цветового тона для всей истории; но, когда режиссер спросил моего мнения на сей счет, я сказал ему, что Средневековье представляло себя (особенно в миниатюрах) в красках резких и кричащих, то есть видело себя почти без оттенков и предпочитало свет и ясность. Не могу вспомнить, думал ли я об этих цветах, когда писал роман, и допускаю, что каждый читатель сам мог бы по-своему «расцветить» эти сцены на свой вкус, воссоздавая в воображении свое собственное средневековое пространство. Когда затем я увидел фильм, первая моя реакция была такой: получилось Средневековье в духе Караваджо {♦ 187}, то есть в духе XVII в., с редкими бликами яркого света на мрачном заднем фоне. В душе я посетовал на столь явно ошибочное истолкование intentio operis [254] *. Лишь впоследствии, поразмыслив над этим, я понял, что режиссер действовал, так сказать, согласно природе. Если сцена происходит в закрытом помещении, освещенном только факелом или фонарем либо единственным окном (а снаружи ночь или туман), то можно получить результат лишь в духе Караваджо, и редкие лучи, падающие на лица, напоминают скорее Жоржа де Латура, чем «Роскошный часослов герцога Беррийского» или оттоновские миниатюры {♦ 188}. Возможно, Средневековье изображало себя в ярких и пронзительных тонах, но на деле видело оно себя (причем бо́льшую часть дня) в барочной светотени. Возразить на это нечего – разве то, что фильм вынужден был принять некое решение там, где роман его не принимал. В романе фонарь был flatus vocis, и яркость его света можно было лишь вообразить; в фильме же фонарь стал светоносной материей и выражал именно такую яркость света.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу