Что же иномирного видит Набоков? Автор — честен: «понимая, что дверь в потусторонность приоткрылась, не спешил делать вид, что умеет безошибочно отличать бездонность от алости, хотя некоторую дань в ранних стихах лазурным странам и лучезарным щитам отдал» [74;79]. На самом деле и в более поздних произведениях достаточно иномирных примет и картин, проекций того мира — в наш (чего стоит одно только это, «чюрленисовское» описание: «В небе вольно вспыхивает исполинская бездна, бесконечно раскручиваются прозрачные спирали»), однако набоковское «ироническое (при этом явно далекое от нигилизма) отношение к возможностям человека более или менее ясно осознать „иной“ мир» [2] заставляет исследователей фиксировать приблизительность лексики в этом вопросе [74;80].
Может быть, Набоков ждет каких-то других сообщений от потусторонности? Не чюрленисовских картинок? А чего же?
«Главным сообщением Сирина о других берегах пока остается констатация того факта, что они существуют. И что с ними возможен контакт. Каким-то и неким образом» [74;80].
А по-другому могло ли быть?
Безнадежны, но бессчетны (упорны) сиринские попытки удачного завершения полета: любые действия в момент кульминации, в зените внезапно срываются. И этот общий конструктивный принцип [74;111] Курицын прямо связывает с невозможностью перехода в иное измерение; происходит лишь «трынь-брынь движение на границе, прилив-отлив» [74;111]: «Короткие вылазки, заглядывания, прикосновения для большинства сиринских героев — органичнее решительных пересечений границ» [74;114]. Ф. Двиняпин и вовсе все творчество Набокова считает хрониками неудачной попытки [34;475]. Так ли это в американский период? В русскоязычный — попытка прорыва тотально обречена на неудачу.
«…Для прорыва нужны соответствующие условия», — вздыхает В. Н. Курицын [74;80]. Какие же?
Прежде всего, надо разобраться, почемуВ. В. Набокова так влекла потусторонность. Это понятие-ключ, данное им [97], ставшее после работы В. Е. Александрова [2] общим местом у зарубежных и отечественных исследователей при определении доминанты его творчества, само не может не порождать вопросы.
Псевдоответ про стремление к потусторонности: «не совать в нее нос немыслимо для человека, который знает, что она существует» [74;81]. Движитель — здоровое любопытство.
Другой ответ: «Жизнь, мечта, творчество были для него установлением космоса в окружающем хаосе. ‹…› Герои Набокова и их верховный автор сами существуют и мир это оценивают лишь в постоянном сопоставлении его с миром, симметрично отстоящем от нашего мира яви. Там, в координатах фантазии, только и существует для его героев норма» [140;150]. Впрочем, потусторонность — «то, что находится по ту сторону зеркала. Это может быть как иной мир, так и мир прошлого, мир воображения» [46]; даже набоковская интертекстуальность есть «искусственная, самим автором, а не природой или Богом сотворенная потусторонность. Рукодельные Другие Берега» [74;137]. К тому же миры Набокова обнаруживают способность к «более путаным связям» [74;86] нежели простое подчинение низшего высшему: череда реальностей, ни одна из которых не является основной, и переплетение этих реальностей [74;87].
Для чего автору сложная, порой запутанная конструкция? Ведь и почти все главные герои имеют своих (иногда множащихся) двойников — нравственных антагонистов: П. Лебедев отмечает отданные автором героям пары ипостасей: «кощунство и праведность, отчаянье и просветленность, неверие и веру. ‹…› Набоковский дар основан на высочайшей разности потенциалов между двумя этими линиями» [76]. Эта двучастность (мир романтиков-мечтателей, наделенных художественной зрячестью [54], комических святых [75] — и пошляков, слепцов, неспособных видеть мир вечно новым, всегда меняющимся [55], погруженных в жизнерадостное, нахрапистое анти-бытие [161]) в произведениях Набокова полярна, но не рядоположена: последние, по М. Шульману, — лишь «придаточные» персонажи: за исключением главного героя, который спускается в новосоздаваемый мир, как водолаз, вестником автора, прочие безжалостно истребляются сразу по иссякании в них нужды, как существа, не желающие знать небесную истину [161].
Вот попытка психологически (или онтологически?) обосновать тягу к иномирью как к покинутой родине: «…свою особость Набоков, передав ее героям, описывает как мучительные попытки как-то приспособиться к окружающей, вольно и легко льющейся за окнами, жизни — где звучит музыка, где веселятся после рабочего дня клерки, покупают башмаки и бьют посуду, — и куда с тоской, отмечая осьминоговым глазом тысячу подробностей, глядит инопланетянин, не дрогнув кожистым веком» [161]. Сам Набоков писал: «любимые мои создания, мои блистательные персонажи — в „Даре“, в „Приглашении на казнь“, в „Аде“, в „Подвиге“ и так далее — в конечном итоге оказываются победителями» [98]: они же возвращаются туда.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
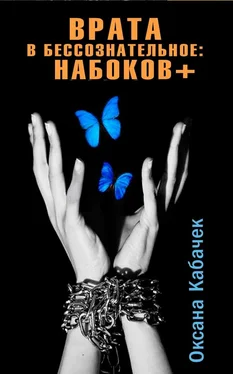

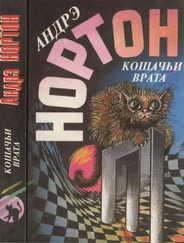





![Карл Юнг - Архетипы и коллективное бессознательное [litres]](/books/398004/karl-yung-arhetipy-i-kollektivnoe-bessoznatelnoe-thumb.webp)



