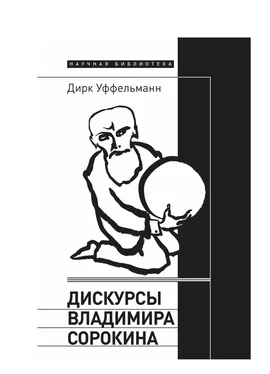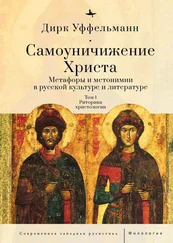Читатель, знакомый с более ранними произведениями Сорокина, отметит, что именно в различных второстепенных эпизодах в «Голубом сале» писатель наиболее последовательно придерживается присущей ему склонности концептуализировать историческую специфику поэтики романа XIX века и социалистического реализма. Ранний Сорокин, воспроизводя поэтику прошлого, вместо традиционного сатирического осмеяния прибегал к пространным имитациям — порой занимавшим сотни страниц — определенных стилей, нередко рассматривая оригинал с холодной — но не враждебной — отстраненностью. В «Голубом сале», наоборот, лишь отдельные фрагменты (например, рассказ о пловце или подражание Толстому704) можно назвать полноценными примерами строгой и последовательной концептуализации: многие видят в большинстве эпизодов откровенные пародии705. Однако это слишком упрощенное определение: в «Голубом сале» Сорокин не столько прибегает собственно к пародиям, сколько интересуется художественной динамикой бульварной литературы. Воспроизведение чужих литературных стилей (которыми в романе пишут клоны реальных писателей) на первый взгляд кажется пародией, но в ней нет сатиры на действительность. Сорокин исследует пародию как художественное средство, о чем свидетельствуют злые пародии на Льва Толстого и еще более резкие — на Анну Ахматову, к которой советские диссиденты относились с глубоким уважением.
Роман построен на новой метафоре концептуалистского воспроизведения — образе клонирования. Первая треть «Голубого сала» основана на литературных творениях семи пишущих клонов: Толстой-4, Чехов-3, Набоков-7, Пастернак-1, Достоевский-2, Ахматова-2 и Платонов-3. Когда Елена Кутловская спросила Сорокина, почему он так подробно останавливается на клонировании, Сорокин в ответ указал на «искусность» и «удобство» этого приема:
Она [проблема клонирования] хороша для литературы. Я не верю, что можно клонировать человека. Но я верю, что художник может клонировать историю, например, или время. В данном случае клонирование — это щит, которым удобно прикрыть искусность такого хода. Потому что машины времени не существует, а клон — это очень удобная палочка-выручалочка. Механизм реанимации времени, истории, той или иной личности706.
В отличие от стилистических имитаций, лежавших в основе сюжета у раннего Сорокина, вставные эпизоды в «Голубом сале» представлены как результат «биофилологических» экспериментов. На уровне сюжета экспериментальный характер этих «произведений» объясняет огрехи в имитации различных стилей минувших эпох. Так, в творениях клона Достоевского наблюдаются явные технические издержки, например избыточные повторы:
<...> двое простолюдинов, студент и пожилая дама остановились, как вкопанные в землю столбы, столбы, столбы столбы-с столбы, да, верстовые столбы, и с нескрываемым волнением проводили глазами удивительную пару до самого подъезда707.
Набоков-7 начинает с цитирования Толстого — искажая знаменитое начало «Анны Карениной» (1878): «Все счастливые семьи несчастны одинаково, каждая несчастливая семья счастлива по-своему»708. В произведениях Ахматовой-2709, Набокова-7710 и Пастернака-1711 встречаются весьма нетипичные для этих авторов вульгаризмы. Жестокость прозы Андрея Платонова находит отражение в тексте Платонова-3712, где части тела сгорают в паровой машине, а у Чехова-3 прорывается долго сдерживаемая агрессия713. И доброжелательные714, и враждебно настроенные критики715 сходятся во мнении, что недочеты большинства стилистических подражаний, за исключением Толстого, указывают на то, что автор намеренно рисует провал литературного клонирования.
В конце 1990-х и начале 2000-х годов Сорокин, отдавая предпочтение метафорам, сопряженным с интертекстуальностью и литературностью, несколько раз обращался к темам клонирования и фантастических веществ. В металитературной пьесе Dostoevsky-trip, написанной в 1997 году (и впервые поставленной 24 ноября 1999 года в московском «Театре на Юго-Западе»), наркотики, названные именами известных писателей, гарантируют попадание в художественный мир текстов, созданных этими авторами. Одна таблетка отправляет персонажей-наркоманов в сюжет, недвусмысленно напоминающий «Идиота» Достоевского716, что приводит к летальному исходу717. Клонирование как сюжетный ход встречается у Сорокина уже в 1993 году — в пьесе «Юбилей». Этот ход всплывает и позже, в 2005 году, в либретто к опере «Дети Розенталя» (о которой я буду говорить ниже), где речь идет о композиторах. Металитературная интерпретация вещества, давшего название роману «Голубое сало», <.. .> может натолкнуть читателя на мысль, что он употребляет наркотик, вырывающий его из привычной повседневности и переставляющий ее элементы в вымышленном художественном мире в совершенно ином сочетании718. Если смотреть на роман подобным отстраненным взглядом, весь текст можно рассматривать как «одну большую попытку жонглировать русской литературой», «автореферентную структуру», построенную на литературности как таковой719. В силу подчеркнутой, «нарциссической» металитературности пьес и романа «Голубое сало», «литературной формы, вглядывающейся в процесс собственного создания и восприятия»720, термин «постмодернизм» применим к их текстам более, чем ко многим другим произведениям Сорокина.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу