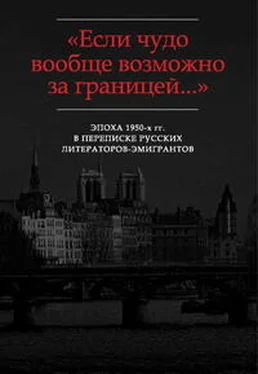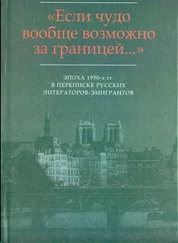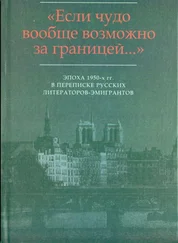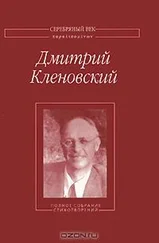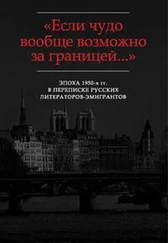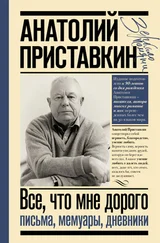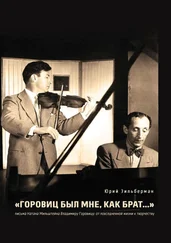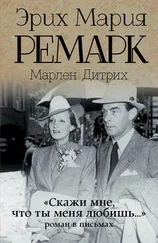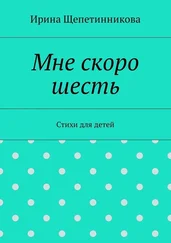Расхождения во взглядах на поэзию существовали изначально, но до поры до времени они не мешали активной и заинтересованной переписке. Собственно, и началось все с разногласий, впрочем, умеренных и потому не сразу заметных. В первом же (несохранившемся) письме Кленовский вступил в спор по поводу отбора поэтов в антологию. В следующих письмах расхождений обнаружилось довольно много, причем порой оценки не совпадали разительно (Н.А. Заболоцкий, Г.В. Иванов, футуристы). «Последний акмеист» [6] Ржевский Л. Последний акмеист: О творчестве Дмитрия Кленовского // Новое русское слово. 1974. 7 апреля.
, как называли Кленовского, и автор первых монографий о футуризме имели слишком разные воззрения на литературу.
Отсутствие читателей, нелады с критиками (точнее, слишком чувствительная реакция на отдельные выпады критиков, в целом отнесшихся к Маркову очень и очень благосклонно) привели к тому, что в середине 1950-х гг. Марков разочаровался в своей поэзии, стал писать стихи все реже, почти целиком отдаваясь филологии и профессорской деятельности. Кленовский же с каждым годом все прочнее входил в литературный мир эмиграции, завоевывая одно из самых почетных мест на тогдашнем поэтическом Олимпе.
Тихой сапой Кленовский пытался переубеждать Маркова и перетягивать на свою сторону. Однако Марков, будучи человеком упрямым, предпочитал стоять на своем, антропософией не соблазнился, от Георгия Иванова не отказался и перейти в иную литературную веру не захотел. Количество разногласий неуклонно накапливалось и неумолимо приближалось к критической точке. В 1962 г. в одном из писем Марков высказался о новой книге Кленовского без обычного пиетета, накопившиеся несогласия наконец прорвались. Кленовскому придирки Маркова показались несправедливыми и даже грубыми, о чем он вежливо, но твердо написал в ответном письме. На этом переписка и оборвалась.
Впрочем, каждую свою новую книгу Кленовский неизменно посылал Маркову с любезной дарственной надписью. Кроме этих книг, в архиве Маркова сохранилось одно деловое письмо от 10 января 1965 г., ответ на запрос Маркова о том, какое стихотворение Кленовского включить в антологию, да новогодняя поздравительная открытка, отосланная спустя еще несколько лет, в декабре 1969 г. Несмотря на то что оба заверили друг друга в прежних чувствах, переписка так и не возобновилась.
Письма печатаются по оригиналам, сохранившимся в архиве В.Ф. Маркова и ныне находящимся в РГАЛИ (Ф. 1348. Собрание писем писателей, ученых, общественных деятелей).
18 дек<���абря 19>52
Глубокоуважаемый Владимир…..!
(к сожалению, не знаю Вашего отчества!)
Рад был получить Ваши разъяснения [7], полностью Вас «реабилитировавшие». И Вы были правы, их прислав, ибо неверные суждения рассеивать нужно! [8]Надеюсь, Вы не в обиде на меня за то, что, не будучи в курсе дела, я превратно кое-что себе объяснил?
Вполне правильной считаю я также теперь и Вашу мысль дать Ахматову, Сологуба и Волошина как «пролог к антологии» [9]. Я бы только на Вашем месте еще прибавил к ним Гумилева («Трамвай», «Память» и др.) и Кузмина («…и мы, как Меньшиков в Березове, / читаем Библию и ждем» [10], «Странничий вечер» [11]и др.).
Вот с чем я с Вами не согласен, это в отборе авторов. По-моему, Вы слишком копнули вглубь и недостаточно вширь. Я придерживаюсь того мнения, что в антологиях должны быть представлены не одни лишь литературные «тузы», но, так сказать, и «валеты», у которых, право же, есть отдельные отличные стихи и с которыми иначе как через антологию познакомиться невозможно. Ведь «тузы» изданы и переизданы, если сам их не имеешь — раздобудешь у товарища, а «валеты» — раритет. Я бы поэтому, будучи на В<���ашем> месте, включил в книгу еще 6–7 второстепенных поэтов.
Насчет опечаток — тут нужен глаз да глаз! Я шесть раз возвращал гранки моей книги [12], но зато добился полного благополучия. Жаль, что мандельштамовские прекрасные «вигилии» превратились в «веселия»! [13]Если даже так и было в одном из изданий, которыми Вы пользовались, — это явная опечатка, так себя «исправить» М<���андельштам> не мог!
Чем Вы меня, однако, сильно огорчили — это Вашим влечением к Заболоцкому! Я отнюдь не ретроград в искусстве и многие смелости и даже странности приемлю, но в данном случае мой шок никак в восхищение не перешел… Зощенки вижу достаточно, но Пушкина и Державина — не замечаю… Конечно, и у Заболоцкого есть удачные кусочки, но, на мой взгляд, они тонут в море пошлости и безвкусицы. Я испытываю к нему какое-то почти физическое отвращение…
Читать дальше