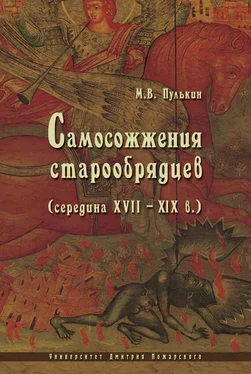Отлаженный механизм подготовки к самосожжению крайне редко давал сбои. В связи с этим проблема незавершенных самосожжений вызывает значительный научный интерес. Несмотря на ничтожность результатов и значительно меньший общественный резонанс, они должны быть подробно изучены по ряду причин. Во-первых, благодаря им лучше сохранялись разновидности источников, выявляющие круг тех влиятельных в старообрядческой среде людей, от которых непосредственно зависело осуществление ритуального суицида. В том случае, если «гарь» происходила, многие свидетельства погибали вместе с приверженцами «огненной смерти». Так, в 1679 г. из Сибири в Пустозерск пришел старообрядческий посланник с запросом к находящемуся там протопопу Аввакуму: следует ли старообрядцам в данный момент сжигаться или нет. Он одобрил их намерение. Но после возвращения посланца назад, потенциальные самосожигатели потребовали от своих наставников ответа не только от одного протопопа, но и от всех пустозерских узников. «Пока посланец снова добрался до пустозерцев, все эти четыре отца погибли на костре, но не на костре самоубийственной гари, а на устроенном правительственным палачом» [857].
Во-вторых, источники показывают, что в действительности массовая гибель не всегда являлась целью подготовки к самосожжению. Важно отделить самосожжения во имя «древлего благочестия» от своеобразных демонстраций подготовки к самоубийству, имеющих единственную цель – привлечь внимание власти к явно неблагополучному положению крестьян в конкретной местности. Исследователь истории старообрядчества А.Т. Шашков, опираясь на сибирские материалы конца XVII – начала XVIII в. утверждает: «угроза устроить самосожжение становилась довольно эффективным средством воздействия крестьян на местную администрацию» [858]. Мне также удалось обнаружить документальные свидетельства об имитации подготовки к массовому самоубийству. Такого рода данные часто используются для доказательства того, что самосожжения были формой «борьбы против существующего строя». Между тем, они являются особой группой источников, имеющих лишь косвенное отношение к «истинным» самосожжениям, осуществляемым для окончательного спасения души от «мира Антихриста».
Первая демонстративная подготовка к самосожжению относится к весне 1679 г. В этот период старообрядцы собрались в Мехонской слободе Тюменского уезда. Дело происходило вскоре после массовой «гари» близ деревни Березовки того же уезда, что придавало грядущим событиям особую трагичность. Но конкретным поводом стали явные угрозы и преследования старообрядцев со стороны местного духовенства. Крестьяне заперлись в дом «с женишками и детишками», угрожая самосожжением. Вокруг дома по распоряжению местного воеводы выставили караул, началась осада с непрерывными священническими «увещеваниями». Но одновременно каратели договорились с местными жителями и продали им все имущество и земельные участки собравшихся для самосожжения крестьян. Когда мехонские старообрядцы отказались от своего намерения гореть и вышли из осады, они оказались полностью разоренными [859].
В XVIII в. отмечались сходные явления: крестьяне начинали подготовку к самосожжению, стремясь добиться уступок от местной власти. Одно из таких самосожжений-демонстраций произошло в 1753 г. в Ялуторовском дистрикте. Местный благочинный протопоп Калиновский на основании ложного доноса велел заковать в колодки двух старообрядцев. Это произвело сильное впечатление на местных приверженцев «древлего благочестия». Они собрались в дом к одному из местных жителей, Федору Снегиреву, и заявили о своем намерении сжечься, «оттого, что де зазывают их, раскольников, к протопопу Калиновскому и многих увезли в Суерскую контору для приводу к троеперстному сложению». После этого заявления последовало еще одно, более грозное. Старообрядцы послали к начальству десятника сказать: «ежели их от того троеперстного сложения не освободят, то всеконечно хотят сгореть». Протопоп был вынужден отпустить схваченных старообрядцев. Сибирская губернская канцелярия, узнав о происшествии, послала местному митрополиту резкую промеморию, в которой осуждались действия духовного начальства. В ней говорилось об опасности принудительных мер [860].
Большинство случаев планомерной подготовки к самосожжению заканчивались совершенно иначе. Имеющиеся источники позволяют достаточно подробно исследовать этот вопрос. Авторы произведений, в которых оспаривалось право старообрядцев на добровольный уход из жизни, не жалели черных красок для создания трагической картины. В момент самосожжения «предстоящия людие видят чюдо страшно и слышат дивство необычно и ужасно». Когда разгорается огонь внутри «оной хлевины» («згорелого» дома. — М.П .), «от сих самозаключенных насмертников изходит жалостной вопль и голка велика, от мужей – нелепое крычание, от жен – жалостное восклицание, юношее – горькая туга, от девиц – жалостный вопль, и паки от малых детей, сущих младенец, – и пищание, и восклицание подобием и образом, якоже во аде и геене». Родственники, находящиеся за пределами «згорелого дома», пытаются спасти погибающих в огне, но это им не удается. Когда «огненное свирепство умножится», находящиеся вблизи от «гари» «умильно слезят и со тщанием огнь погашают, и борзо храмину оную терзают», надеясь хоть кого-нибудь спасти «от самогубительныя смерти», но все их усилия оказываются напрасными: «ничтоже успевают» [861].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу