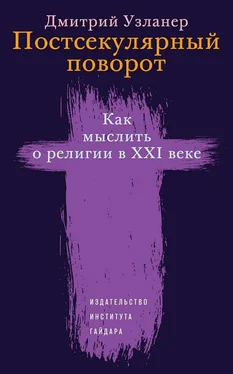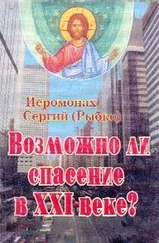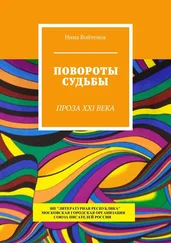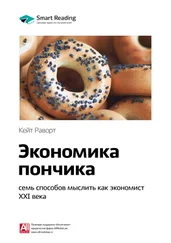Если, например, брать современный культурный конфликт [465] Hunter J. D. Culture Wars: The Struggle to Control the Family, Art, Education, Law, and Politics in America. Basic Press, 1991; Штекль К. Постсекулярные конфликты и глобальная борьба за традиционные ценности (лекция) // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2016. № 4. С. 222–240; Bob C. The Global Right Wing and the Clash of World Politics. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
, сводящийся к противостоянию традиционалистской и прогрессистской позиций (в России он связан с борьбой вокруг так называемых «традиционных ценностей» [466] Stepanova E. «The Spiritual and Moral Foundation of Civilization in Every Nation for Thousands of Years»: The Traditional Values Discourse in Russia // Politics, Religion & Ideology. 2015. 16 (2–3): 119–136; Uzlaner D. Perverse Conservatism: A Lacanian Interpretation of Russia’s Turn to Traditional Values // Psychoanalysis, Culture and Society. 2017. 22 (2): 173–192.
), то едва ли имеет смысл описывать его через противостояние светского и религиозного лагерей. Линия конфликта проходит не между этими лагерями, но через них, оставляя часть верующих на традиционалистской стороне, а часть — на стороне социального прогрессизма. То же самое касается и светского лагеря, представители которого находятся по обе стороны этого противостояния. То есть мы мало что поймем о современных культурных войнах, если продолжим цепляться за привычную дихотомию «религиозное / секулярное». Наоборот, отказавшись от этого привычного деления, мы увидим совершенно другие перспективы и совершенно иную расстановку сил, делающую это культурное противостояние столь насыщенным, интересным и драматичным.
Нормативная генеалогия
Нормативная генеалогия постсекулярности связана с академической дисциплиной «политическая теория», а внутри нее — с политическим либерализмом. Постсекулярная повестка политического либерализма была сформулирована в работах Джона Ролза [467] Rawls J. Political Liberalism. New York: Columbia University Press, 1993.
и Юргена Хабермаса [468] Habermas J. Religion in the Public Sphere // European Journal of Philosophy. 2006. 14 (1): 1–25.
, реагировавшего на работы Ролза. Данная повестка имеет очевидное нормативное измерение, она вдохновила политфилософскую дискуссию о «рефлексивных» формах секуляризма [469] Calhoun C., Juergensmeyer M. and VanAntwerpen J. (eds.) Rethinking Secularism. Oxford: Oxford University Press, 2011; Ferrara A., Kaul V. and Rasmussen D. Special Issue of Philosophy and Social Criticism: Postsecularism and Multicultural Jurisdictions. 2010. Vol. 36 (3–4); Gorski Ph., Kyuman Kim D., Torpey J. and VanAntwerpen J. (eds.) The Post-Secular in Question: Religion in Contemporary Society. New York & London: New York University Press, 2012.
. Согласно постсекулярному политическому либерализму, идеология секуляризма не является неотъемлемой частью либерализма. Более того, секуляризм как политическая идеология дискриминирует религиозных граждан. Все граждане должны обладать равной свободой участия в обсуждении общественнозначимых вопросов, исходя из рамок своих «всеобъемлющих учений». Однако это возможно лишь в том случае, если они готовы к разумной дискуссии о политических нормах и если они признают необходимость достижения приемлемого для всех консенсуса (так называемый перекрывающий консенсус).
Вклад Хабермаса в нормативную генеалогию постсекулярного органично вытекает из его предшествующих работ о коммуникативном действии и делиберативной демократии. Нормы, лежащие в основании наших конфигураций политического сосуществования, не вытекают — и в этом заключается самое ядро позиции Хабермаса, — из неких «принципов из ниоткуда». Но из этого не следует и необходимость отказа от самой идеи общих руководящих норм перед лицом плюрализма моральных убеждений и верований. По мнению Хабермаса, согласие по поводу «значимых для всех принципов» может быть достигнуто в процессе общения и взаимной делиберации. Согласие — это результат процесса взаимного обучения и установки на достижение консенсуса. Сам Хабермас описывает такой подход как «постметафизический», поскольку значимость моральных и политических принципов обосновывается не путем отсылки к некому трансцендетному принципу, а через имманентный процесс совместной делиберации. Этот равный доступ к обсуждению общественнозначимых вопросов оказывается под угрозой в тот момент, когда секулярный публичный дискурс становится препятствием для религиозных граждан в озвучивании своих аргументов. По мнению Хабермаса, решение этой проблемы подразумевает не только требование религиозным гражданам переводить свои тезисы на язык секулярного политического дискурса, но еще и необходимость со стороны нерелигиозных граждан умерить свои секуляристские устремления и позволить другой стороне быть услышанной. Подобная двусторонняя работа по переводу должна в итоге привести к тому, что Хабермас называет «процессом взаимодополняющего обучения» [470] Habermas J. «The Political»: The Rational Meaning of a Questionable Inheritance of Political Theology // Butler J., VanAntwerpen J. (eds.) The Power of Religion in the Public Sphere. Columbia: Columbia University Press, 2011. P. 15–33.
.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу