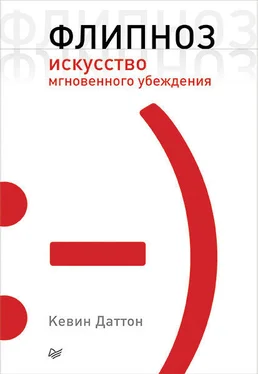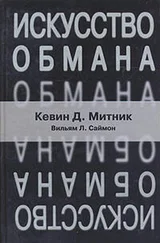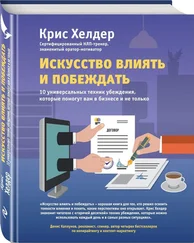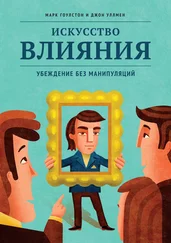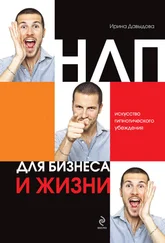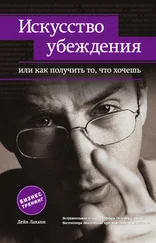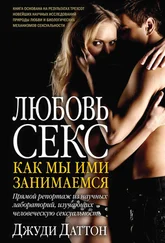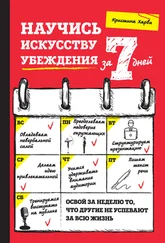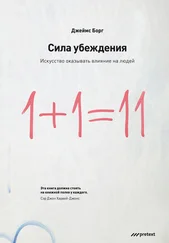Психолог Давид Штромец и его коллеги из Монмутского университета продемонстрировали принцип, очень схожий с тем, который применяет Хан. Только у Штромеца цель была не в том, чтобы обчистить людей, а чтобы увеличить сумму чаевых в ресторане. Штромец разделил посетителей на три группы, в зависимости от того, сколько сластей каждому дали в качестве комплимента от ресторана в конце трапезы. Посетители из первой группы получили от официанта по одной конфете. Из второй – по две. С третьей же – только представьте! – он поступил следующим образом. Сначала отдал одну конфету и отошел. Потом оглянулся, словно раздумывая, и добавил вторую. Таким образом, одна группа получила по одной конфете, и две группы – по две. Но они получили их по-разному. Понимаете, к чему я?
Повлияло ли число преподнесенных конфет и способ преподнесения на размер чаевых, как предсказывал Штромец?
Можете не сомневаться. По сравнению с контрольной группой (самой большой!) посетителей, вообще не получившей конфет, те, кому дали одну, выложили чаевых в среднем на 3,3 % больше. Неплохой навар для грошовых затрат. Те, кому преподнесли две конфеты в среднем оставили на столе на 14,1 % больше чаевых. Еще лучше. Но самый высокий прирост прибыли был от тех, кто получил сначала одну конфету, а потом другую – потрясающий прилив щедрости, 23 %!
Такая неожиданная и на первый взгляд необъяснимая перемена отношения («Эй, ребята, а для вас у меня два подарка вместо одного!») разрезает застежки наших кошельков, словно нож – масло, в точности так же, как и Шафик Хан своим неожиданным и необъяснимым, но только на первый взгляд, прикосновением «открывал» бумажник своей ничего не подозревающей жертвы.
С одной стороны, эволюция запрограммировала наш мозг на поиск коротких путей – с помощью эвристики репрезентативности и пригодности. Но с другой, снабдила его иной, более сложной программой: врожденным способом осмысливать мир – придавать данным ту или иную значимость, а случайное и произвольное возводить в образец. Запустите эти программы одновременно, нарушив все ожидания и заставив их противоречить друг другу, – и система мгновенно зависнет.
А это очень опасно, если вы имеете дело с такими людьми, как Хан.
Как-то раз тюрьму одной страны посетил тамошний король, чтобы побеседовать с заключенными. Каждый из них просил освободить его на том основании, что он невиновен. Вдруг король заметил молчаливого, удрученно сидящего в углу заключенного.
Король приблизился к человеку и спросил его: «Чем вы так расстроены?»
«Так ведь я – преступник», – ответил человек.
«Это действительно так?» – спросил король.
«Да, – подтвердил человек. – Это правда».
Впечатленный его честностью, король приказал отпустить человека, заметив: «Я не хочу, чтобы отпетый преступник оставался в обществе всех этих невинных людей. Он бы на них плохо повлиял».
Нет человека, что был бы как остров, писал поэт Джон Донн, которого – да простит нас Курт Левин – следовало бы провозгласить истинным отцом социальной психологии. Наше поведение, начиная с древних времен, тесно связано с поведением окружающих. И самое сильное влияние на любого из нас оказывают именно они, эти самые другие.
Мы, люди, запрограммированы на то, чтобы держаться вместе. Образовывать группы. А также на то, чтобы отдавать предпочтение членам «своей» группы, а не «чужой».
Давным-давно, во времена наших предков, принадлежность к группе была самым первым полисом страхования жизни. И мы, ребята, в нем действительно нуждались. И с тех самых пор не перестаем возобновлять этот древний страховой договор.
В 1971 г. Генри Тайфель из Бристольского университета провел эксперимент, который в точности иллюстрировал договоренность, достигнутую между нами и естественным отбором. Эксперимент оказался настолько разоблачающим, что с тех пор стал классическим, дав название важному явлению, изучаемому социальной психологией: минимальная группа .
Так вот что сделал Тайфель. Взял наугад несколько учеников средней школы и показал им изображение точек.
«Сколько точек вы видите перед собой на экране?» – спросил он каждого в отдельности.
Поскольку их было довольно много – я имею в виду точки, – а времени на ответ отпущено меньше, чем полсекунды, студенты представления не имели о точности своих подсчетов. Но, так или иначе, их сделали, и эта умышленная манипуляция позволила Тайфелю произвольно разделить студентов на две «минимальные группы»: «занижателей» и «завышателей». «Минимальные» потому, что классификация была надуманной и учитывала малозначительное отличие. «Группы»? Да просто потому, что учеников было несколько.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу