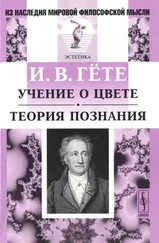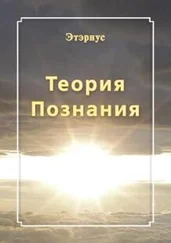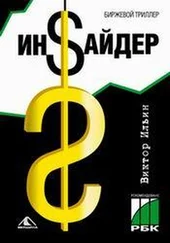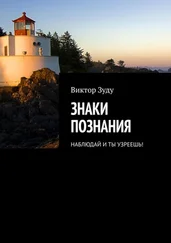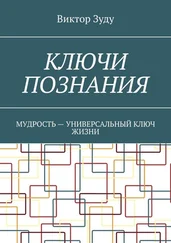Произвольно (нерегламентированно) ведет себя ребенок, не знающий канонов ни поведенческих, ни языковых «игр». Постепенно усваивая и присваивая их (регламенты обмена деятельностью) в социализации, он встраивается в системы универсальных аллелей, выходить из которых невозможно. (Выход из них равносилен преступлению, неотвратимо влекущему искупляющее наказание. Нераскаявшихся, неподвластных перековке парий выдворяют из общества за асоциальность.) Всякий ест всякого, но кто-то отказывается есть подобного себе. Это и есть начало цивилизации. Откуда следует: способом самозаявления самости в социальных «играх» является погруженность в общезначимые регламентирующие канонические системы культуры, языка, общения, здравого смысла.
7. Человеческие чувства, самоизъявления, поползновения души всегда личностны, уникальны. Никакой скрупулезной прозой, поэтической (вообще – литературной) армадой их не выразить. Как справедливо отмечает Бергсон: «Каждый из нас по-своему любит и ненавидит, и эта любовь, и эта ненависть отражает всю нашу личность. Но язык обозначает эти переживания одними и теми же словами. Поэтому он в состоянии фиксировать только объективный и безличный аспект любви и ненависти, и тысячи других ощущений, переживаемых нашей душой» 78.
Препятствие демонстрации персонально уникального – общесоциальная универсальность разговорного языка. Препятствие капитальное, но не непреодолимое. Смысл известных положительных усилий по избеганию восточной способности вливаться в «рой» покрывают варианты:
а) отказ от суждения (о чем нельзя говорить, о том нужно молчать);
б) упор на звуковой облик слов (тембровка, орнаментовка, мелодика, ритмика звучащего слова), осуществляющий настройку (верленовский призыв – музыка прежде всего) восприятия (здесь преуспел Фет, о котором Чайковский высказывал: «Он сделал шаг в нашу (композиторов. – В. И.) сторону»);
в) развертывание герменевтики.
Упрямая аналитическая честность, обязывая отдать должное двум первым неконцептуальным остроумным версиям, заставляет сосредоточиться на третьем исходе.
Начать с того, что язык воздействует на автора, автор на язык (у каждого озабоченного передачей внутреннего духовного строя самости литератора – свой язык, в первую очередь, конечно, лирика). Как верно подчеркивает Шлейермахер, язык зависит от автора, автор от языка. Чувство языка, проистекающее от чувства личностного (чувства его истории), предрасположено к выражению «души» говорящего 79, ее самораскрытию 80. С последним консолидировано «понимание», прогрессирующее по стадиям: обыденное – специальное (частная герменевтика) – общее (общая герменевтика как универсальное искусство понимания).
В таком рефлективном ряду, ясно, нет строгости (не достигается полного приспособления универсального языка к передаче уникальных душевных фигур человека); герменевтические акты всегда приблизительны. Между тем задание корреляции: постижение внутреннего персонального мира через постигание неповторимого языка – перспективно. Тем более оно перспективно в свете детализирующего реконструктивную процедуру комбинированного применения дивинационного и сравнительного метода: блок интуитивного провидения, прозрения, предпонимания с дискурсивной объяснительной аналитикой надежно перекрывает глизантинную топь нерационального персонального.
Познание в экзистенции. Было бы предвзятым преувеличением утверждать, что философская антропология – тематическая сфера, нетронутая рефлективной мыслью. Непреходящие всесторонние заслуги Паскаля, Монтеня, Кьеркегора, Фейербаха, Дильтея, Шелера, Плеснера, Гелена опровергают поверхностный некритично негативный взгляд на вещи. Независимо от этого, однако, трудно избавиться от ощущения некоей недоразвитости (сопоставительно с магистральными направлениями поиска в высокой теории – такими, скажем, как онтология, гносеология, социология) антропологии как сегмента философского знания.
Скудный запас идей, концептуальная полутьма моделей свидетельствуют не только об отсутствии мужества, здоровых претензий в среде первопроходцев; об отсутствии выверенной методологии освоения экзистенциальной реальности – тоже. Источник досадных и роковых ошибок здесь, по-нашему, – деиндивидуализация, усугубляемая переносом отработанных для нечеловекоразмерных познавательных контекстов приемов на человекоразмерные. Между тем антропологию нельзя крепить на неантропологии. Самый характер интеллектуального движения в человеконесущей среде взыскует трансформации ее традиционного представления.
Читать дальше