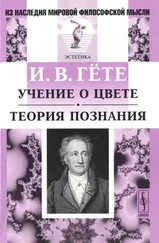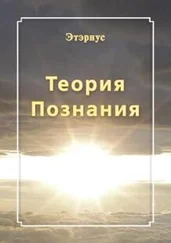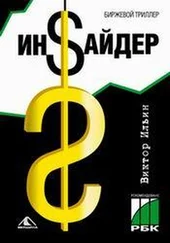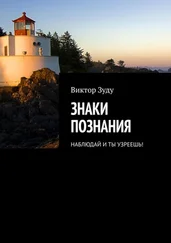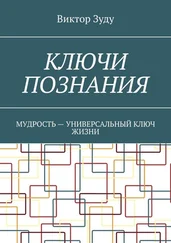Между тем, как говаривал Добролюбов, сидя в ящике, ящика не перевернуть. Как, с одной стороны, не разваливая науку (ее дискурсивно-логическую организацию), с другой стороны, инкорпорировать в нее мотивное, ценностно-целевое, символически-смысловое, побудительно-предпочтительное (что традиционно выносится наукой за скобки), иначе говоря, – сделать науку человекоразмерной, антропоориентированной?
Для реализации поставленной задачи в понимающей психологии уповали на воображение, перевоплощение, подражание, внушение, озарение. Но это – декларативно. До операционального уровня от деклараций так и не спустились, не дошли. Тем же грешат и вызывающие момент озноба бергсоновские заявки на освоение субъективной реальности, акцентуирующие «со-чувствие», благодаря которому «внутренний мир одного… передается во внутренний мир другого, чтобы совпасть с ним – уникальным и, следовательно, невыразимым» 75.
Как же, преодолевая гипноз иррационального, сохранить верность наукосообразному выражению материала (субъективной сферы)?
Будем исходить из того, что в символической ценностной среде вполне объективно складываются правила образования и преобразования сущего: результаты «исторической коллективной жизни рода» (Виндельбанд) генерализируются в нормы, по которым вполне целесообразно идет пролонгация существования, вершение истории. Эту отвлеченно-условную, непрестанно и, безусловно обмирщаемую регулятивную образность, ответственную за целесообразность деятельностных объективации, будем толковать как базис общения, взаимодействия, установления значимостей.
Позитивизм, бихевиоризм квалифицировали его (базис) как химеру, подменили рефлексологическим поведением. Невнятно. Тускло. Ибо экзистенциальное действие (куда укладываются глубина, полнота мига, а не рефлексность мира), а не поведение – содержание жизни. Шелер предлагал изучать их симбиоз в социальном целом. Дело важное, но боковое.
Руководствуясь сюжетным ритмом исходной постановки, резко и ясно выскажемся за плюрализм знаний. Глубокую доктрину познания правильно строить не на критике интеллекта, не на гиперболизации одного его вида (наука), а на рефлексии реальной диверифицированности духовных форм. Скажем: в общесоциальной, общеисторической культуре ratio утверждается в створе триптиха: природа – наука – техника. В экзистенциальной индивидуальной культуре ratio утверждается в створе триптиха: мир – ближний – вечное. Для тематизации первого пригодны фигуры стандартной формальной логики. Для тематизации второго пригодны фигуры логики нестандартной антропной, осуществляющей движение от лица к лицу. Намечая экзиз последней, открыто, осознанно встанем в створ диспозиций:
1. Логика межчеловеческой коммуникации, доверительного откровенного общения (антропологика) – раздвигает выразительные горизонты формально-оправдательно-удостоверяющей логики. Переступать границу выразимого рационально с помощью понятий не удается. Посему центрируются вклинивающиеся в коммуникацию паралингвистические, экспрессивные, аффективные моменты.
2. Невзирая на риск недостижения универсальности, аподиктичности, заключающийся и в самом предмете, и в обстоятельствах им овладения, определенные перспективы открывает сменяющее осмысление усмотрение. Как в варианте Гуссерля – Wesenschau, так и Вейля – in Einsichten. Впрочем, оба крепятся на гораздо более сильных, солидных практических обобщениях-убеждениях наличия неких реперов человеческого самоутверждения. Упомянем В. Соловьева: «Через всю историю проходят постепенно расширяющиеся течения универсальных начал, объединяющих мысль и жизнь человечества»; и Дильтея: жизнь «содержит в себе постоянные связи, единообразно повторяющиеся во всех человеческих индивидах. Наряду с такими, которые свойственны одному какому-либо полу, расе, нации, сословию и т. д., наконец, отдельному индивиду. Так как у всех людей один и тот же внешний мир, то они создают одну и ту же систему чисел, те же пространственные отношения, те же грамматические и логические соотношения. Так как люди живут в условиях соответствия между этим внешним миром и общей им всем структурной связью души, то отсюда возникают одинаковые формы предпочтения и выбора, одинаковые соотношения между целями и средствами, известные единообразные соотношения между ценностями, известные единообразные черты жизненного идеала» 76.
3. «Сознание единства человеческого рода углубилось и одухотворилось; возникла новая огромная задача – объединить человечество изнутри, в духе и истине», – нацеливал Соловьев. Задача Соловьева (пока?!) не решена. Человечество изнутри разъединено. Сакральное уравнение, содержащее рецепт консолидации человечества по духу и истине (а не власти), невзирая на захватывающие планы Сен-Симона (новое художественное христианство с лозунгом «любите друг друга»), Соловьева (вселенская теократия), Сорокина (творческий альтруизм, этическая солидарность), Вивекананды («коллективное освобождение», «царство шудр»), Радхакришнана («вечная религия», «религия духа»), до сих пор не выведено.
Читать дальше