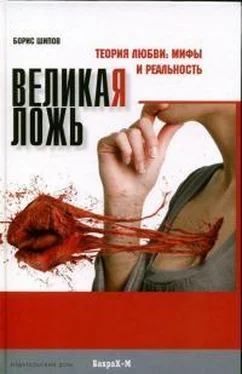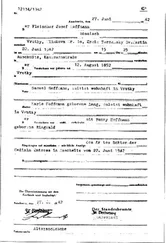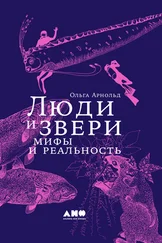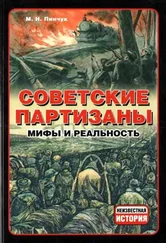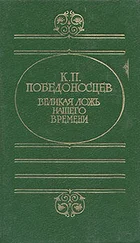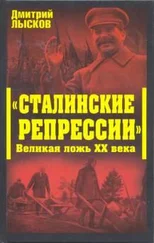Любовь в истории
В целом, в главном, любовное поведение и сопровождающие его чувства зависят от общественного устройства и не в последнюю очередь от положения женщины. В Европе до XIX века жизнь женщины ограничивалась почти исключительно домом: ей не позволяли учиться, не подпускали ни к какой службе, сильно урезали ее права в распоряжении даже собственным — полученным по наследству или внесенным в качестве приданого — имуществом. Ее считали одновременно прекрасной, беспомощной и безмозглой — и поклонялись ей.
Джентльмен викторианской эпохи при всем своем рыцарском отношении к даме от души расхохотался бы, услышав, что она может стать врачом или судьей. А от предположения о том, что женщина может стать министра обороны или президентом, и вовсе помер бы со смеху — если не разгневался бы, как разгневался бы еще в середине XX века житель южных штатов США, услышав, что президентом его страны когда-нибудь может стать чернокожий.
Сегодня женщина учится и работает бок о бок с мужчинами, делает карьеру, руководит корпорациями и занимает государственные должности, а в американских боевиках еще и молотит руками-ногами террористов, стреляет без промаха из всех видов оружия и пилотирует военные летательные аппараты. Ясное дело, что чувства к нежному беспомощному созданию и чувства к боевому товарищу или к возможному сопернику в карьере — никак уж не одно и то же.
Важнейшие черты феодального строя — сословное деление и иерархия, при которой каждый, кто хоть немного выше по рождению, был чрезвычайно уважаем уже только за это. Для феодального строя характерны также строгая регламентация поведения — в зависимости от положения в иерархии — и масса обязательных условностей и церемоний.
В наше время в развитых странах как мужчина, так и женщина могут очень неплохо жить и занимать самое высокое положение, выучившись и сделав карьеру, — вне зависимости от своего происхождения, вне зависимости от количества знатных предков. Очевидно, что любовь лиц, напичканных сословными предрассудками, рабов своего положения, также отличается от любви людей свободных, зависящих только от себя, ценимых за свои достоинства и свои достижения и в то же время свободных от условностей и церемоний.
В средние века в вопросах секса люди думали и выражались довольно откровенно, в XIX веке сделались совершенно бесполыми — в литературе и в морали, разумеется; в наши дни опять стали говорить и писать на эту тему смелее. Любовь джентльмена, который слово «секс» выговорить не в состоянии, и юной леди, которая подобных слов вообще не знает и даже не подозревает об их существовании — опять же не совсем то, что любовь наших современников, у каждого из которых дома коллекция видеодисков с эротикой.
Томов не будет
В принципе, нет никаких препятствий к тому, чтобы проследить развитие любовных отношений в истории с учетом подобных факторов, а затем изучить и описать закономерности их индивидуального воплощения в жизни — в зависимости от характеров действующих лиц — и отражение их в сознании в виде чувств, которые, в свою очередь, также определяются общественной моралью. Получится толстенный том, очень возможно, и не один. Э.Фуксу, который проследил развитие эротики в истории, потребовалось три тома под тысячу страниц каждый.
Однако многотомной теории любви, скорее всего, никогда не появится, поскольку она никому не нужна. К такому предположению приводят размышления по поводу дружбы, которая значит в жизни людей не меньше, чем любовь, да и встречается куда чаще.
В отличие от любви, для понимания которой нужен невиданный «сплав и психологического, и биологического, и социального, и этико-эстетического», мифа о непостижимости для ума дружеских отношений никогда не существовало. Как изучать их, в принципе, ясно. Допустим, особый род дружбы, именуемый фронтовым братством, порождается ежедневной смертельной опасностью, необходимостью взаимовыручки и жизнью на пределе физических возможностей. А восторженное обожание барышень из института благородных девиц и тому подобных учебных заведений возникает, наоборот, в результате отрыва от реальной жизни, изоляции от мужского пола и воспитания в искусственных тепличных условиях.
Идеологических причин, которые препятствовали бы изучению дружбы, также никогда не было: аристократы и демократы, фашисты и коммунисты дружбу уважали одинаково и не имели никакой заинтересованности в извращении ее понимания. Тем не менее, отрасли психологической науки под названием что-то вроде «дружбологии» не существует, и непохоже, что она когда-либо появится — несмотря на очевидную и никем не оспариваемую важность дружеских отношений. Научные труды по этим вопросам очень немногочисленны и заметного интереса не вызывают даже у специалистов.
Читать дальше