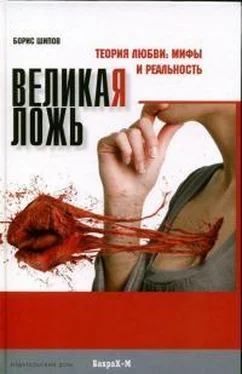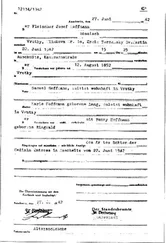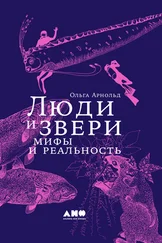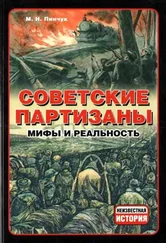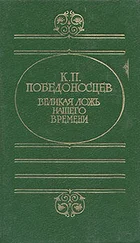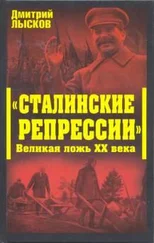Но далее «чувственные краски блекли, так как антитеза страсти и любви превращала последнюю в чистый сентимент и отрывала ее все более и более от жизни. Расширение ее идеального содержания покупалось ценой внутреннего оскудения чувств, замыкавшегося в формах сословного поклонения и утрачивавшего человеческие черты. Цель, которую преследовал вассал дамы, переносилась теперь в пределы самого процесса любовного вожделения, почти совпадая с осознанием “службы” дaме-идеалу. Она характеризуется как domina высшего порядка и становится все менее и менее доступной» {257}.
Здесь Шишмарев очень подробно описывает процесс самостоятельного развития явления в отрыве от своей основы. Любовь становится самоцелью. Любить, по представлению теоретиков той эпохи, необходимо прежде всего в целях самоусовершенствования: «Любовь пробуждает мужество и делает человека щедрым. Требуя благородного сердца, она в то же время воспитывает в нем благородные стремления; она делает человека совершенным вассалом. В глазах средневекового феодала или рыцаря этого аргумента было вполне достаточно, чтобы убедить колеблющегося относительно смысла и значения любви, понятой как самоцель» {258}. Естественно, предметом такой любви и должна быть дама из высшего круга: чем выше и недоступнее, тем лучше.
Позднее любовь совсем воспарила в небеса: «... Дама, ставшая руководительницей нравственного просветления сердца и окруженная сиянием добродетели, могла легко превратиться в существо высшего порядка, порвавшего всякую связь с реальной действительностью» {259}. «Когда идеализация культа дамы достигла указанного выше предела, servir стало ... модой, лишенной более или менее серьезного содержания.» {260}. «... Трудно провести в некоторых пьесах Раймона грань между чувствами к женщине или любовью к богу. Перед нами как будто только две разные фазы одного и того же состояния души, разные степени напряжения любовного тяготения к источнику добра и жизни» {261}.
Но по-рыцарски рыцарь относился отнюдь не ко всем женщинам. С крестьянками он вел себя куда проще. Целый пласт в поэзии раннего средневековья составляют так называемые пастурели. Их анализ также можно найти у Шишмарева: «Пьесы этого рода крайне характерны по своей наивной простоте и откровенности. Красота пастушки и благоухающая кругом весна — все это пробуждает в поэте самые элементарные желания, с которыми он просто не в силах бороться: они овладели им помимо его воли; переговоры с девушкой раздражают сильнее. Еще минута, желание достигает крайней степени напряжения, и наступает развязка. … Порыв миновал. Поэт с прежней наивностью рассказывает о том, как страсть в нем улеглась, он успокаивается, садится на коня и исчезает вдали. Грубость и жестокость финала в этой форме смягчена в некоторых пьесах предпосланной ему коротенькой сценой прощания» {262}.
Сценки, описываемые в пастурелях, — это еще ничего. А вообще «в отношении крестьянок куртуазный автор предлагает ... не стесняться образом действий, прибегая даже к насилию» {263}.
Взгляды В.Г. Белинского на рыцарскую любовь очень похожи: «Он смотрел на свою даму, как на существо бесплотное; чувственное стремление к ней он почел бы профанациею, грехом: она была для него идеалом, и мысль о ней давала ему и храбрость и силу. Он призывал ее имя в битвах, он умирал с ее именем на устах. Он был ей верен всю жизнь, и если б для этой верности у него не хватило любви в сердце, он легко заменил бы ее аффектациею. И это страстно-духовное, это трепетно-благоговейное обожание избранной "дамы сердца" нисколько не мешало жениться на другой или быть в самой греховной связи с десятками других женщин, — не мешало самому грубому, циническому разврату. То идеал, а то действительность: зачем же им было мешать друг другу?...» {264}
Ну а с собственной женой рыцарь и вовсе не церемонился. Обратимся к первоисточнику. В «Песне о нибелунгах», созданной около 1200-го года, как раз во времена расцвета рыцарской любви, читаем:
«Кримхильда продолжала: мне дан и так урок.
Когда известно стало, сколь дерзостный упрек
В порыве злобы мною невестке брошен был,
Меня разгневанный супруг безжалостно побил.» {265}.
А кулак у него был претяжелый… Кстати, разговор этот происходил в присутствии посторонних: «Переглянулись рыцари, стоявшие вокруг» {266}. Видно, рукоприкладство было тогда вполне обычным делом. И кто же он, «супруг разгневанный»? Отважный Зигфрид — идеал мужчины и воина.
Читать дальше