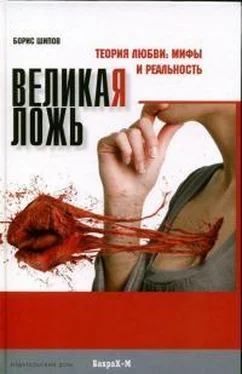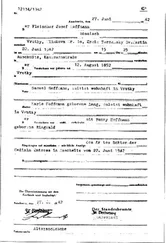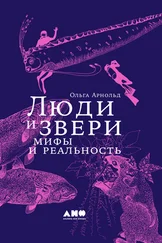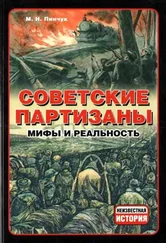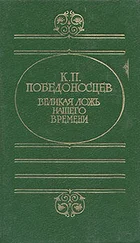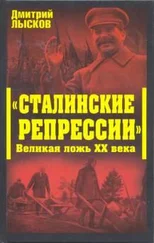«Отменно воспитали родители его,
Хоть был природой щедро он взыскан без того.
Поэтому по праву воитель молодой
Считался украшением страны своей родной» {267}.
Уж если отменно воспитанные позволяли себе такое... Можно представить, как обращались с женами остальные. «Пьяный и бешеный, он мстил ей за дурное расположение своего духа, он мог бить ее, равно как и свою собаку, в сердцах на дурную погоду, мешавшую ему охотиться. При малейшем подозрении в неверности он мог ее зарезать, удавить, сжечь, зарыть живую в землю, и — увы! — такие истории не были в Средние века слишком редкими или исключительными событиями» {268}. — описывал В.Г.Белинский нравы эпохи рыцарской любви.
Прослеживая развитие теоретических воззрений эпохи раннего средневековья на любовь, Шишмарев истоки этой любви видит не в «магнитных мостиках, связывающих души влюбленных», а в образе жизни господствующего класса.
Рыцарь — это тяжеловооруженный профессиональный вояка, мелкий феодал по происхождению на службе у крупного феодала. Если нет войны, он занимается разбойничьими набегами на соседей, на купцов, а в промежутках между такого рода подвигами околачивается в замке своего сеньора, пьянствует и охотится.
В девушку своего сословия, в жену равного себе или в крестьянку влюбиться он не мог. Для феодала, что крупного, что мелкого женитьба — не что иное, как способ установления и укрепления политических и семейных союзов. Чувствами здесь интересовались в самую последнюю очередь.
Для любви к женщине или девушке из низшего сословия внешних препятствий вроде бы не существовало. Зато было препятствие другого рода — разница положения. Феодальному обществу было свойственно обостренное чувство социальной дистанции. Тот, кто в феодальной иерархии находился хоть чуть повыше, относился к низшему с величайшим, по нашим меркам, чванством и пренебрежением, и самые выдающиеся личные качества низшего не стоили ровным счетом ничего. Поступки, а также образ мыслей каждого индивида был строго регламентирован — в зависимости от сословного положения. Какая уж тут любовь к крестьянкам...
Для любви-служения, наоборот, обстановка была самой благоприятной. Рыцарь, живущий в замке или при замке, имеет возможность более или менее постоянного общения с дамами и, прежде всего, с женой своего господина. Он может ввернуть в разговоре учтивое словечко, произнести комплимент, выразить свою преданность, блеснуть на турнире. Важно, что о своей преданности рыцарь мог распространяться совершенно открыто — морали феодального общества это ничуть не противоречило. Напротив, безоглядная слепая верность сюзерену считалась в средние века важнейшей из всех добродетелей. Выражения восхищения и верности по отношению к жене сеньора могли дополнительно подогреваться, с одной стороны, физическим влечением, а с другой — надеждой на получение подарков.
В дальнейшем в отношениях рыцаря к даме мотив физического влечения постепенно заглох, зато мотив служения, наоборот, развился. Развиваться самостоятельно, независимо от своей основы, могут не все обычаи, а только те, которые получили достаточно широкое распространение, которые признаны в обществе, которые передаются в программе социального наследования, о которых можно говорить открыто. То, что в отношениях людей встречается нечасто, то, что отвергается моралью, делается воровски, тайно, самостоятельного развития не получает.
Физическая любовь к даме, госпоже широкого распространения получить никак не могла. Что-нибудь в этом роде иной раз, наверное, случалось, но говорить об этом вслух, воспитывать на таких примерах молодежь — невозможно представить. А вот разглагольствовать о служении, восхищении и преданности — совсем другое дело. Со временем, когда служение даме вошло в обычай, истинная причина, из-за чего все началось, потерялась из виду. Ничего страшного, теоретики тут же подыскали подходящее объяснение — необходимость самоусовершенствования.
Шишмарев вполне отчетливо видел, что развитие рыцарской любви — процесс в известной степени самостоятельный, обладающий некоторой независимостью по отношению к причинам, его вызывавшим. «Наша задача — проследить развитие теоретических воззрений на любовь; они далеки от жизни, как далека от нее средневековая любовь. Она выросла из потребности сердца, но очень скоро обратилась поневоле в игру в чувство, в игру ума; к этому приводил принцип адюльтера, и анализ “исторических” документов не подтвердил тех, кто пытался перенести в сферу живой действительности отношения, которые имели в виду царство мечты и идеала» {269}.
Читать дальше