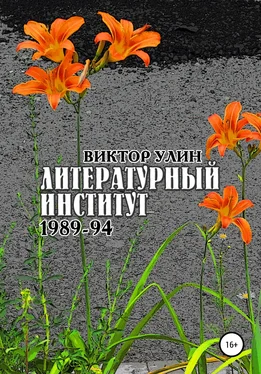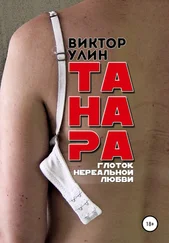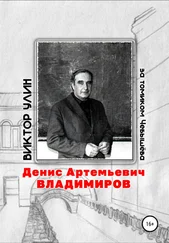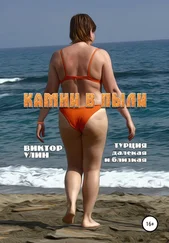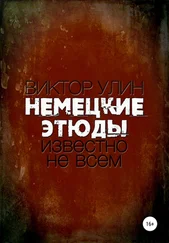Еще более яркие краски добавляют вставные новеллы, заключенные автором в оправу главного сюжета.
Прибегнув к современной терминологии, « Метаморфозы » можно именовать романом нравов.
Нравы эти весьма посты и вращаются вокруг примитивной физиологии. Фактически все эпизоды и вставные новелл так или иначе касаются проблем удовлетворения чувственности. Я думаю, именно поэтому Апулей обратился к старому сюжету: ведь осел служил для древних символом сладострастия. Вероятно, увидев осла, читатель начинал ждать от него плотских похождений – тем более, что в своем человеческом облике Луций не был чужд ничему земному. И то, что, проведя героя сквозь цепь перипетий, Апулей как бы нарочно лишает его возможности проявить ослиную страсть до самой 22-й главы книги X, служило для разжигания пикантного читательского любопытства.
Вставные новеллы различны по значению.
Некоторые – как, к примеру, новелла о любовнике Филизитере и рабе Мирмексе (кн. IX, гл. 16-21) – носят самостоятельный характер.
Иные, подобно рассказу о Тразилле и Тлеполеме (кн. VIII, гл. 1-14), служат в некотором роде продолжением событий основного сюжета.
Вставки носят бытовой характер, повествуя в разных вариантах об одном и том же.
Особняком среди этих житейских анекдотов стоит новелла – вернее, даже не новелла, а литературный миф – об Амуре и Психее, занявшая 63 главы в книгах IV-VI. В этом фрагменте автор отрывается от приниженного быта и описывает достаточно высокие чувства и страдания героев.
Просматривая пеструю вереницу первых десяти книг « Золотого осла », мы можем пересчитать по пальцам встретившихся там хороших людей.
Это лишь трое братьев, вступившихся за бедняка (кн. IX, гл. 35-38) и благородный врач, раскрывший тяжкое преступление (кн. X, гл. 2-12), не считая второстепенных персонажей.
И это, думается, неслучайно. Апулей в пародийно-буффонадной форме насмехается над привычками своего общества. Правда, бичевание нравов не достигает у него Петрониевой выразительности, ибо легко перо автора и легко все им описываемое. Даже гнусный акт скотоложства (кн. X, гл. 22), даже мерзкое непотребство бродячих евнухов (кн. VIII, гл. 29) обрисованы так, что вызывают скорее смех, нежели отвращение. Легкость Апулеевой руки – это, пожалуй, главное проявление его таланта. Именно она привлекает читателей поздних веков. И именно этой легкостью, как мне кажется, упивался Александр Сергеевич Пушкин, предпочитая блестящего Апулея мраморному Цицерону.
Эта веселая распутная легкость нарушается в двух местах.
Сначала в легенде об Амуре и Психее, не имеющей ничего общего как с атмосферой разбойничьего стана, где ее слышит Луций, так и со всем содержанием романа.
А потом в книге XI, чужеродность которой видна невооруженным глазом. Достаточно вспомнить, что в книге I Луций рассказывает, что родился в Греции, а в книге XI неожиданно объявляет себя уроженцем африканского города Мадавры, откуда вышел сам Апулей. Не соответствует общему построению и сюжетный ход книги XI: внезапно прерывая ослиный путь, Луций просит помощи у Изиды. Хотя для обратной метаморфозы ему было достаточно пожевать роз.
Многие исследователи склонны видеть в сказке об Амуре и Психее аллегорический образ борьбы души и тела. А в книге XI видят философский взгляд самого Апулея, проведшего Луция через скверну для очищения перед служением высокой богине.
Мне такой взгляд не представляется правомерным.
Все переводчики и исследователи Апулея находятся под многовековым бременем христианства, которое из поколения в поколение выработало уже на генетическом уровне априорный догмат антагонизма души и тела.
Но мне кажется, что ретроспективная проекция такого мировоззрения на творчество Апулея не имеет реальной почвы, ибо в условиях античного политеизма не могло быть места последовательному противопоставлению ипостасей человеческой сущности.
Оправдание новеллы об Амуре и Психее я вижу в том, что Апулей хотел во что бы то ни стало порадовать читателя красивой сказкой.
Что касается книги XI, то она, думается мне, продиктована соображениями, далекими от литературы. Возможно, защищаясь против обвинения в магии, Апулей воспользовался помощью жрецов Изиды, после чего обязан был расплатиться своей монетой, восславив богиню в романе. Позднейшие эпохи дают нам массу примеров, когда художник продавал свое перо, борясь за хлеб насущный и место под солнцем.
Но этот вопрос не имеет отношения к оценке романа « Метаморфозы », который уже много веков радует и веселит читателя.
Читать дальше