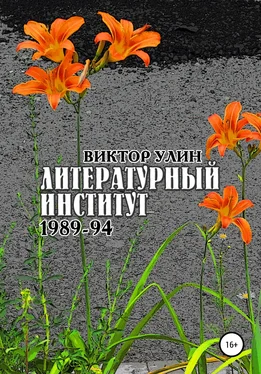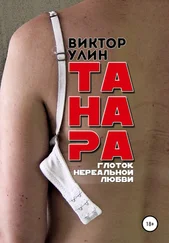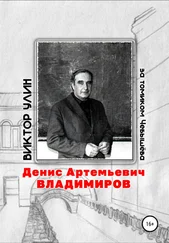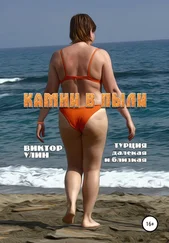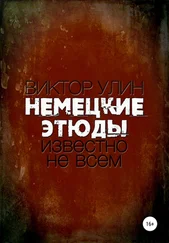В служении Эроту Лонг видит смысл земного бытия. И как пример его власти рисует нам историю любви Дафниса и Хлои.
Лонг существенно отличается от других авторов в разработке любовной темы.
С одной стороны, любовь у него не носит бесплотного характера, свойственного античной добродетели. Любовь у Лонга изначально чувственна и зарождается из впечатлений Хлои после омовения Дафниса в пещере нимф (кн. I, гл. 13), когда она
«ничего уже больше с тех пор не желала, кроме как увидеть Дафниса купающимся».
А с другой стороны, любовь Дафниса и Хлои не вспыхивает с абстрактного « одного взгляда », а показана в постепенном развитии взаимного влечения давно знакомых юноши и девушки.
Особенно тонко выписаны внутренние монологи героев, предшествующие осознанию любви.
«Больна я, но что за болезнь, не знаю; страдаю я, но нет на мне раны…»
– говорит о своем смятении души Хлоя (кн. I, гл. 14).
«Что ж сделал со мной Хлои поцелуй?..»
– вторит ей Дафнис (кн. I, гл. 14).
Эти монологи – чудесный лирический гимн распускающейся любви. И несмотря на прошедшие 18 веков, мне кажется, что и в наше время они волнуют читателя своим юным и чистым трепетом. И, вспоминая собственный опыт первой любви, каждый из убеждается, что мир многажды поменял формы, но сущность человеческих чувств остается неизменной.
Финал романа написан, на мой взгляд, своеобразно.
Приведя героев к свадьбе в 38-й главе IV книги, Лонг дает беглый эпилог: в главе 39-й обрисовывает дальнейшую супружескую жизнь. Если бы повествование оборвалось на этом, то финал выглядел бы сообразно традициям времени. Однако Лонг добавляет еще одну главу, где совершает обратный бросок в прошлое и описывает первую ночь Дафниса и Хлои. С точки зрения античного хронологизма композиции эта глава должна предшествовать 39-й. Временной сдвиг же усиливает действие финала, подчеркивая необъятность земного счастья, ждущего Дафниса и Хлою.
Роман Лонга замечателен композиционной уравновешенностью, совершенством формы, искренностью и чистотой. Гете говорил, что
«« Дафниса и Хлою » полезно читать каждый год, чтобы учиться у него и каждый раз заново чувствовать его красоту».
В отличие от других авторов, герои Лонга – пастухи, то есть рабы. Впрочем, и Лонг не смог до конца преодолеть стереотип и сделал героев детьми знатных граждан, случайно воспитанными в рабстве – прибегнул к стандартному для античности приему подкидывания-узнавания. Но, в отличие, например, от Апулея, рабы которого лживы и продажны, Лонг рисует низший класс с большой симпатией. Можно только позавидовать природной доброте приемных родителей героев – рабов Мирталы и Ламона, Напы и Дриаса. Зримо подано и бесправие раба (кн. IV, гл. 16-19), когда по господской воле Дафнис едва не сделался предметом удовлетворения гнусной похоти парасита Гнатона.
Роман Лонга отличается от других еще и тем, что действие его происходит исключительно в буколической обстановке.
Рисуя – возможно, под влиянием Феокрита – идиллическую жизнь пастухов на острове Лесбос, Лонг временами впадает в утопизм. Но в этом, вероятно, проявляет свое мировоззрение: эпизоды, связанные с городской жизнью (война жителей Метимны и Митилены в кн. II и III), ясно дают нам понять, что в городе автор видит зло, вносящее дисгармонию в счастливую естественную жизнь.
« Дафниса и Хлою » справедливо считают первоначалом пасторального романа. Мне кажется, что из романа Лонга можно выкристаллизовать все, что служило основой поэтики сельской жизни от Тургенева до Бунина, как служит и далеким первоисточником нашей нынешней « деревенской » прозы.
3
« Метаморфозы » Апулея не представляют фабульной оригинальности, ибо автор использовал греческую повесть « Лукий или осел », ошибочно приписываемую Лукиану, а фактически принадлежащую перу не дошедшего до нас Лукия Патрского. Однако, прибегнув к творческому заимствованию превращения человека в осла, автор « Метаморфоз » существенно расширил и усложнил композицию сюжета.
Роман захватывает читателя с первых страниц.
Рассказ прохожего в главах 5-19 книги I приоткрывает нам картину загадочной жизни фессалийского городка Гипаты, куда держит путь несчастный Луций, и в этом вводном эпизоде содержится обещание необычайности всего, происходящего дальше.
Как только совершается метаморфоза, все магическое отходит на второй план: повествуя о мытарствах Луция-осла, Апулей рисует пестрые реалии античной жизни.
Читать дальше