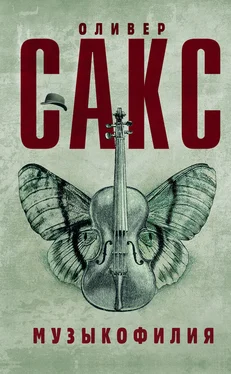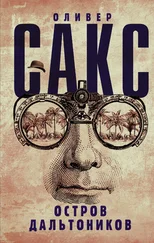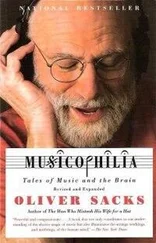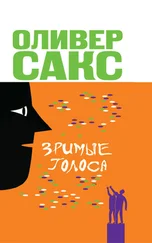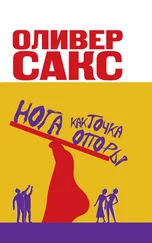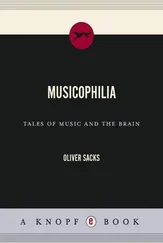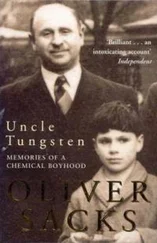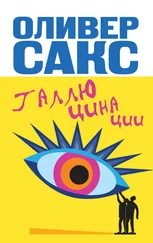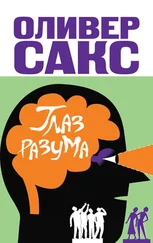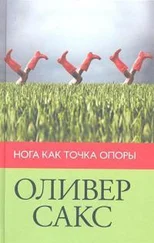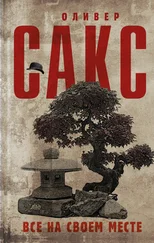Обычно, но не всегда. Одна моя корреспондентка жаловалась, что, когда она находится в состоянии глубокой подавленности, музыка лишь усугубляет депрессию:
«Я обнаружила, что не могу слушать классическую музыку, которую я всегда так любила. …Было не важно, что это за музыка, я не могла слушать никакую. …Она навевала чувство страха и грусти. Эти чувства были так сильны, что мне приходилось, плача, выключать запись. После этого я плакала еще некоторое время…»
Потребовался год траура и интенсивной психотерапии, чтобы женщина снова смогла наслаждаться музыкой.
Сообщение о такой реакции можно найти в записи, сделанной 1 июня 1828 года в «Журнале наблюдения за лунатиками» шотландской королевской больницы в Саннисайде. Запись упоминает об одной больной по имени Марта Уоллес: «несмотря «на преклонный возраст… и сорок четыре года, проведенные в лечебнице без всяких изменений в состоянии душевного здоровья… у нее проявилась восприимчивость к музыке. Как-то раз в субботу, встав со своего стула, она весело пустилась в пляс под мелодию, называемую «Нил-Гоу», которую играл местный скрипач».
Алоис Альцгеймер (который, в отличие от Пика, был невропатологом) на вскрытиях показал, что у нескольких больных Пика в мозгу обнаружились микроскопические структуры, которые были названы тельцами Пика, а саму болезнь затем тоже назвали именем Арнольда Пика. Иногда термин «болезнь Пика» ограничивают теми случаями, когда на вскрытиях в мозге умерших обнаруживаются тельца Пика. Однако, как указывает Эндрю Кертес, этот феномен не имеет большого значения в дифференциальной диагностике; выраженная лобно-височная дегенерация может наблюдаться и при отсутствии в мозгу телец Пика.
Кертес также описал большое семейство, среди членов которого часто встречалась не только лобно-височная деменция, но и такие нейродегенеративные заболевания, как кортико-базальная дегенерация, прогрессирующий надъядерный паралич и некоторые формы паркинсонизма и бокового амиотрофического склероза в сочетании с деменцией. Все эти заболевания, считает Кертес, могут быть связаны между собой; следовательно, их можно объединить под названием «комплекс Пика».
В 1995 году я получил письмо от Гейлорда Эллисона из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Эллисон писал:
«Моей сестре шестьдесят лет. Несколько лет назад ей поставили диагноз: болезнь Пика. Болезнь протекала без особенностей, и сейчас сестра изъясняется фразами, состоящими из одного-двух слов. Недавно мы похоронили мать. После похорон я начал играть на фортепьяно, а Анетта принялась насвистывать мелодию, которую я играл. Она никогда раньше не слышала эту песню, но у нее вдруг проявился неслыханный до тех пор талант. Она свистела, как певчая птичка, верно следуя мелодии и повторяя самые трудные пассажи. Я рассказал об этом ее мужу, и он сказал, что, да, она постоянно насвистывает последние два года, хотя раньше вообще не умела свистеть».
С тех пор как вышло первое издание «Музыкофилии», я получил множество писем, касающихся таких же изменений музыкального вкуса, хотя и не в каждом случае ясно, вызвано ли это изменение лобно-височной деменцией или другими заболеваниями. Одна женщина, воспитанная в классических традициях, пианистка, написала о своей 86-летней матери, страдающей паркинсонизмом, эпилепсией и, отчасти, деменцией:
«Моя мать всегда любила классическую музыку, но за последние несколько месяцев с ней произошло нечто неслыханное: теперь она любит джаз и целый день проигрывает его на полную громкость вместе с новостями круглосуточного кабельного телевидения. Важность джаза кажется странной и даже комичной, потому что, когда мать была «нормальной», она его просто ненавидела».
Аллан Снайдер предположил, что подобный «перевернутый» процесс, а вовсе не универсальная или организующая схема, типичен для творчества больных аутизмом, когда, как при лобно-височной деменции, возможна чрезвычайная легкость в обращении с визуальными или музыкальными фрагментами, но плохо развито вербальное или абстрактное мышление. Существует континуальный переход между очевидной патологией, например, аутизмом или лобно-височной деменцией, и выражением нормального «стиля». У такого композитора, как Чайковский, например, композиции возникали из мелодий, роившихся в его голове; такой процесс творчества, по сути, отличается от грандиозных музыкальных идей, архитектурных построений, типичных для сочинений Бетховена.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу