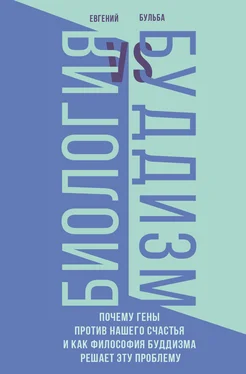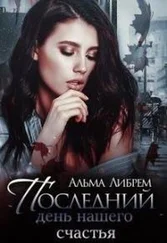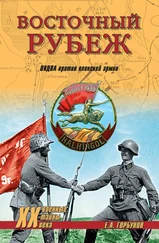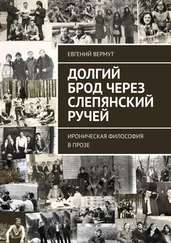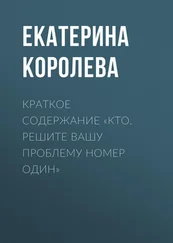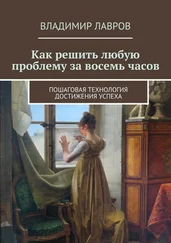Научные критерии не появились сразу – окончательно они были определены уже в наше историческое время философом и социологом Карлом Попером. Но даже сейчас, если вы наберете в поисковике «критерии науки», то увидите самые разные формулировки. В большинстве своем они не противоречат друг другу, но выделяют совершенно разные акценты. Многие из них составлены настолько глупо, что предлагают в качестве основных общие критерии, которые можно отнести не к науке, а к познанию вообще, к методу проб и ошибок, к обычной логике. Например, полезность, истинность, проблемность, обоснованность, проверяемость, объективность, системность, прогрессивность, непротиворечивость, прогнозируемость, достоверность, концептуальная связность, предсказательная сила и практическая эффективность… Подобные списки способны поставить в тупик даже самые светлые головы. Вообще наличие подобных списков отдает чистейшей схоластикой. Если по полному списку прогнать большинство научных дисциплин, то окажется, что многие из них к науке вовсе не относятся, а остальные лишь краем зацепились. Критерии науки рождались не для определений, а для того, чтобы выкристаллизовать новый метод познания. Это не значит, что другие методы познания ложны: буддизм часто называют наукой об уме, частично это правда, хотя на самом деле он не удовлетворяет основным критериям науки. Тем не менее это оставляет его в ряду надежных методов познания определенной части реальности.
Формулировка точных критериев может создать иллюзию, что настоящая наука – относительно новое явление, и спровоцировать вопрос: когда же появилась наука? Ответ будет таков: она существовала всегда! Но главенствующее положение наметилось благодаря научной революции, начало которой связывают с Николаем Коперником и его гелиоцентрической системой.
Такими образом, наука долгие тысячелетия благополучно существовала и без критериев, но после научной революции понадобилось отделить зерна от плевел ради достоверности научного знания, а сегодня еще и для того, чтобы отодвинуть на обочину многочисленных паразитов, рядящихся в научные мантии. Итак, критерии были нужны, чтобы отделить достоверное от ненадежного. Так из алхимии появилась химия, из астрологии – астрономия, из натуральной философии и метафизики – биология, физика и геология.
Давайте попробуем выделить основные критерии науки (подразумевая, что критерии проб и ошибок, логики и здравого смысла являются общими и для науки тоже).
Первым критерием окажется принцип бритвы Оккама. Брат-францисканец Уильям из Оккама, глубоко изучавший Аристотеля, красиво сформулировал известный с античных времен постулат: не следует множить сущее без необходимости («Многообразие не следует предполагать без необходимости»). В науке он утвердился как следующий принцип: из нескольких одинаково хороших объяснений (доказательств) следует выбирать самое простое. Как мы видим, бритва Оккама не касается истинности – ведь истинным может оказаться и не самое простое. Любое явление можно объяснить бесконечно большим количеством способов – который из них истинный? Какой выбрать? Невозможно установить единственно истинное объяснение, выбирая из одинаково логичных! Получается тупик. Тогда, чтобы не застаиваться, берем самый простой и отталкиваемся от него. В этом смысле буддизм далеко не самое простое объяснение реальности. Но принцип бритвы Оккама позволяет пользоваться наукой, практически ставить очередные эксперименты, вкладывая в стену науки кирпичи, состоящие из простых и надежных фактов. Этот метод позволяет двигаться вперед самым быстрым способом и при необходимости заменять кирпичи, если позднее они окажутся ложными. Из принципа бритвы Оккама также следует, что наука не устанавливает истину – она ищет достоверные относительные знания.
Следующий критерий был дан в 1923 году Нильсом Бором во время очередного кризиса в физике и вошел во все остальные науки как критерий соответствия. Он требует, чтобы любая новая научная теория частично соответствовала старой, хорошо проверенной. То есть не находилась с ней в полном противоречии, а расширяла – включала ее как часть более широкого объяснения. Таким образом, каждая новая надежная теория является продолжением старой, но более узкой достоверной теории. Принцип соответствия спасает науку от разброда – от того, чтобы движение вперед не замкнулось и не развалилось на бесчисленные ветвистости. Наука собрала огромный багаж, специалисты из разных областей говорят на совершенно разных языках, но принцип соответствия спасает нас от того, чтобы научные области выродились в закрытые самодостаточные секты. Без принципа соответствия полет фантазии ученых был бы разрушительно неудержим.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу