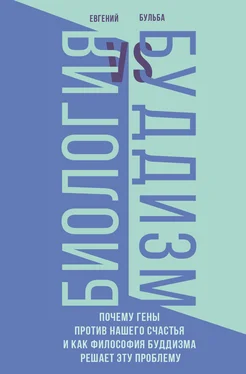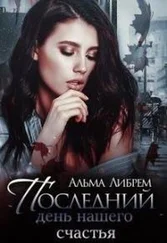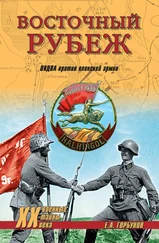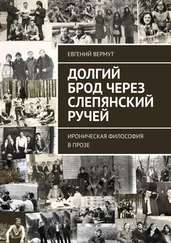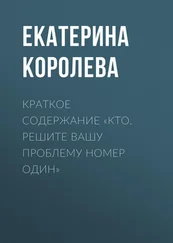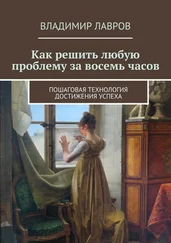Эпитафия на одной из могил Вашингтонского мемориального кладбища:
Стивен Дж. Тайтус,
1949–1985
Боролся за то, чтобы его выслушали в суде, был раздавлен, обманут, предан и лишен даже посмертной справедливости.
Стивен был обвинен в изнасиловании, потому что жертва, Нэнси ван Роупер, опознала его среди похожих мужчин со словами «он больше всех похож».
Нэнси исполнилось всего семнадцать лет, она была раздавлена, не понимала, что делает, и находилась под прессингом полиции, стремившейся во что бы то ни стало «предъявить» преступника. Постепенно она «вспоминала» все новые подробности. Стив был осужден исключительно на основании ее показаний, без каких-либо дополнительных доказательств. Ему было всего тридцать лет. К чести американской системы правосудия, позже его оправдали. Но это сложно назвать «счастливым концом» – Стив потерял репутацию, невесту, работу, все сбережения и в конце концов жизнь – он умер от сердечного приступа за девятнадцать дней до судебного заседания по иску против департамента полиции, допустившего столь грубую ошибку в расследовании. Друзья описывали Стива как веселого и общительного человека, но после тюрьмы больше никто не видел, чтобы он улыбался. Фактически его жизнь закончилась в тридцать лет. Последние пять лет существования он, находясь в тяжелой депрессии, пытался поквитаться с системой, сломавшей его жизнь.
Через два года после смерти Стива, и тоже от сердечного приступа, в сорок три года умер детектив, который, поверив ложным воспоминаниям пострадавшей, сфабриковал обвинение. История Стива – одна из наиболее известных. Американская судебная практика изобилует подобными случаями, и сложно представить, сколько людей лишились жизни и чести из-за внушенных воспоминаний в странах, где правосудие гораздо менее разборчиво!
Больно представить, что чувствуют несправедливо осужденные люди… Еще сложнее представить, что чувствуют семьи, поверившие, что их близкий человек вдруг «оказался» насильником или убийцей.
Итак, наука вполне солидарна с фактом, что мы принимаем иллюзию за реальность и в своем теперешнем положении не способны воспринять действителньость как таковую.
Наша иллюзия как минимум двуслойна. В фильме «Плезантвиль» [92] Американский фильм 1998 года, режиссер Гэри Росс. – Прим. ред.
люди живут в черно-белом мире. Это первый слой нашей иллюзии – наши органы чувств искажают окружающий мир, выдавая вместо него удобную для понимания картинку.
Во втором, более тонком слое оказывается, что не только окружающий мир иллюзорен, но и наше восприятие индивидуально искажает эту общую иллюзию, и каждый из нас живет в иллюзии второго порядка. Герой фильма «Шоу Трумана» [93] Американский фильм 1998 года, режиссер Питер Уир, – Прим. ред.
жил именно в таком мире.
Буддизм утверждает, что все именно так: люди не воспринимают реальность, и ту придуманную картину мира, которую совместно создало человечество, каждый из нас персонально подгоняет под себя – и в результате живет в собственных фантазиях на тему общей иллюзии.
Один из вариантов формулировки Второй благородной истины гласит, что причина страданий в желаниях. Как и в случае с дуккхой-страданием, это определение более широкое, чем привычный для нас смысл слова желание. Под движущей силой сансары понимается некая глубинная тяга к жизни, к бытию в сансаре – тришна. Проще всего было бы сравнить эту тягу с инстинктом самосохранения, но это лишь часть того, что скрывается под понятием тришна. Непреодолимая тяга к борьбе за существование, целью которого является передача своих генов, наверное, ближе всего к тому, что мы понимаем под тришной.
В более привычном виде тришна проявляется как страстные желания (кама), которые движут нами и которым мы не в силах сопротивляться. Это чаще всего имеют в виду, когда говорят, что причина страданий в желаниях. Буддизм не утверждает, что иметь желания всегда плохо. Он лишь указывает на то, что мы их рабы. Пусть это более узкая трактовка, но и с ней сложно поспорить – вряд ли найдется кто-нибудь, кто способен отказаться от желаний, и в результате их исполнения или неисполнения нас зачастую ждут неприятности.
На первый взгляд между двумя формулировками возникает противоречие. Однако буддизм рассматривает глубинное желание и базовое неведение как синонимы, как проявления одного общего качества. О том, как неведение формирует желания, мы уже говорили, но можно сказать и наоборот: желания формируют неведение – нам кажется, что, исполняя желания, мы придем к счастью. Нам кажется, что это единственный путь стать счастливым. Такое убеждение и есть неведение, потому что на самом деле исполнение желаний не ведет к счастью. Это работает механизм, который заставляет нас участвовать в гонке за распространение своих генов. В наш мозг вшита программа самообмана, убеждающая нас, что счастье наступает вслед за исполнением желаний.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу