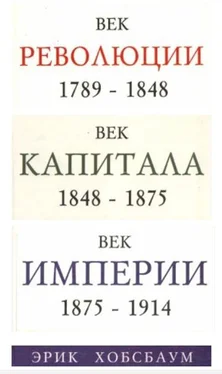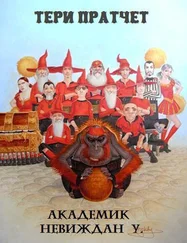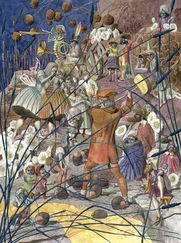Гегель владел острым пером в абстрактной манере, тем же орудием, которь №1владели классические либеральные экономисты, и случайно явился одним из источников марксизма.
Тем не менее с самого начала германская философия по важным позициям отличалась от классического либерализма, причем в гораздо большей степени гегелевская, чем философия Канта. В первую очередь она была, исключительно идеалистичес-
КОЙ, отрицая материализм или эмпиризм классической традиции. Во-вторых, поскольку основным элементом философии Канта является индивидуум — даже в форме индивидуальной совести, — отправной точкой у Гегеля является коллектив (сообщ-ность), на который он смотрит как на разделяющийся на индивидуумов под воздействием исторического развития. Знаменитая диалектика Гегеля — теория прогресса (во всех сферах) через не-прекращающееся решение противоречий — получила первоначальный стимул в силу глубокого понимания противоречий между индивидуальным и коллективным. Более того, с самого начала их позиция на границах пространства последовательного буржу-азно-либерального прогресса и, возможно, неспособность для них участвовать в нем позволяла германским мыслителям лучше осознавать его границы и противоречия. Без сомнения, это было неизбежно, но разве наряду с тяжелыми потерями не было и больших вьпгод? И разве, в свою очередь, ему на смену не прийдет что-то новое?
Таким образом, мы считаем, что классическая, и особенно гегелевская, философия идет параллельно с двойственной философией Руссо относительно ее взгляда на мир, хотя в отличие от него философы предприняли титанические усилия, чтобы заключить свои противоречия в одну всеобъемлющую научно обоснованную систему. (Руссо невольно оказал огромное эмоциональное влияние на Канта, о котором известно, что он нарушил свою неизменную привычку послеобеденного моциона только два раза: раз, когда узнал о падении Бастилии, и второй — на несколько дней, — когда читал «Эмиля»®*). В жизни разочарованные философы-революционеры смотрели на проблему примирения реально, что в случае с Гегелем, после нескольких лет сомнений вылилось в определенную форму — он остался двух мнений о положении Пруссии вплоть до падения Наполеона и, как Гёте, не проявлял интереса к освободительным войнам — идеа-лизиации прусского государства. Теоретически мимолетность исторически обреченных обществ была построена на их философиях. Абсолютной истины нет. Развитие самого исторического процесса, который проходил через диалектику противоречий и был познан 4q)C3 диалектический метод или по крайней мере так считали младогегельянцы, готовые следовать логике немецкой классической философии, не считая того положения, в котором их великий учитель сам хотел сомневаться (поскольку он страстно желал, хотя и несколько нелогично, положить предел истории, познав Абсолютную истину); как после 1830 г., они уже были готовы вновь стать на путь революции, который их учителя либо отвергали, либо, как Гёте, никогда не выбирали. Но исход революций 1830—1848 гг. был не просто победой либерализма среднего класса. А революция в умах, возникшая на основе распада классической немецкой философии, была ни философией Жиронды, ни философией радикалов, а философией Карла Маркса.
Таким образом, период двойственной революции явился и триумфом наиболее тщательно разработанной идеологии мелкой буржуазии и либералов среднего класса, и их расхождения под влиянием государств и обществ, которые они сами создали или приветствовали. 1830 г., ознаменовавшийся возрождением крупного западноевропейского революционного движения после застоя эпохи Ватерлоо, также явился началом кризиса. Им было суждено пережить его, хотя и утратив прежнее значение; никто из экономистов классического либерализма позднего периода не обрел авторитета Смита и Рикардо (конечно, и Милль в том числе, который представлял британских либеральных экономистов-фило-софов с 1840-х гг.), никто из классических германских философов не оказал такого влияния, как Кант и Гегель, а французские жирондисты и якобинцы в 1830, 1848 гг. и после были пигмеями по сравнению с их предшественниками 1789—1794 гг. В этом отношении Мадзини середины XIX в. не может сравниться с Жан-Жаком Руссо XVIII в. Но великая традиция, главное течение интеллектуального развития со времен Ренессанса, не умерла — она превратилась в свою противоположность. Маркс был по своему положению и по подходу наследником классических экономистов и философов. Но общество, чьим пророком и архитектором он надеялся стать, было совсем не тем, о котором он думал.
Читать дальше