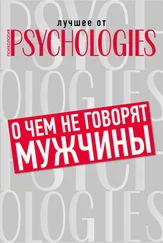Для главы АПТ было ясно, что Москва, во имя сохранения советского влияния в Восточной Европе и той части Балкан, где находились члены Варшавского пакта, предпримет меры, направленные на смену партийно-государственного руководства союзников, не следующих в фарватере политики Кремля. Выступление Н. Хрущева на ХХ съезде КПСС с осуждением культа личности И. Сталина и наиболее одиозных сторон его действий было воспринято с беспокойством в руководящих кругах Албанской партии труда и лично ее секретарем Э. Ходжей, увидевшим в критике сталинизма опасность потери личной власти в результате возможного процесса расширения кампании борьбы против культа личности уже в масштабах всего Восточного блока. Национально-освободительное восстание в Венгрии осенью 1956 г. было использовано главой АПТ для укрепления своей позиции неприятия критики сталинизма, которая могла приобрести в Албании антиходжевские формы. Одновременно для Ходжи появлялась возможность вернуться к прежнему открытому антиюгославскому курсу. Тирана обвинила Белград в поддержке антикоммунистических и антисоветских сил и продолжила прежний курс конфронтации с ним, надеясь на обострение советско-югославских отношений. В определенной степени такие ожидания были небезосновательны, что нашло свое отражение в серии официальных демаршей летом-осенью 1958 г. в ряде восточноевропейских столиц, где политика СКЮ характеризовалась как ревизионизм. Кремль также переходил вновь к враждебной риторике в отношении Белграда. Тирана почувствовала начавшие происходить изменения. К лету 1958 г. антиюгославская пропаганда со стороны руководство АПТ во главе с Э. Ходжей вновь приобрела жесткую и персонифицированную форму, свидетельством чего стала публикация в весьма символичный для СССР день – 22 июня, в партийном органе «Zeri i popullit» статьи «С современным ревизионизмом необходимо сражаться безжалостно до полного его теоретического и политического уничтожения». В ней лично И. Б. Тито и руководимый ими СКЮ обвинялись в попытках подрыва АПТ, оккупации Албании и превращения ее в провинцию Югославии. Одновременно в статье заявлялось о том, что «югославские ревизионисты хотят сейчас учить народно-демократические страны тому, как строить свои отношения с СССР». [495]
Тем временем, достаточно серьезный конфликт начинал назревать между Москвой и Пекином, что становилось заметно для международного коммунизма. Поэтому идеологические разногласия внутри него превращались в серьезный фактор, влиявший на весь комплекс взаимоотношений коммунистических государств друг с другом, включая и оборонную политику. Москва продолжала достаточно подозрительно относится к идейно-теоретическим взглядам Белграда, демонстрировавшего свою независимость и подчеркивавшего свою самостоятельность. Разрабатывавшийся теоретиками югославского режима новый подход к проблемам войны и мира существенно отличался от советского и китайского. Первой пробой новых идеологических установок стал курс лекций профессора И. Косановича под общим названием «Социологический взгляд на войну». Суть этих воззрений заключалась, как заявил Косанович, в том, что «марксисты стоят за национально-освободительные войны. Но не каждая национально-освободительная война является справедливой и прогрессивной по своему характеру. Для того, чтобы такая народно-освободительная война была действительно прогрессивной и освободительной, она должна быть самостоятельной, а не являться инструментом иностранной политики, и должна происходить в таких исторических условиях, в которых не существует опасности перерастания в мировую войну, должна находиться в соответствии с национальными и общечеловеческими интересами» [496]. Изданная вскоре работа Э. Карделя, одного из руководителей Югославии, называвшаяся «Социализм и война», была воспринята в Тиране и Пекине с негодованием, а в Москве – с холодной осторожностью.
Состоявшееся в середине ноября 1960 г. совещание представителей 81 компартии было последним, где советское партийно-государственное руководство попыталось непосредственно и в присутствии оппонентов из коммунистического лагеря добиться поддержки своей монополии. Уже перед началом совещания выявились три центра конфликта: советский, китайский и близкий к последнему – албанский. Распространенное хозяевами встречи письмо ЦК КПСС в адрес ЦК КПК, в котором критиковалось руководство китайской компартии, не содержало среди перечисленных стран «социалистического лагеря» упоминаний об Албании. Уже и без того резко настроенный по отношению к советскому партийно-государственному руководству Первый секретарь АПТ Э. Ходжа потребовал от секретаря ЦК КПСС Ю. Андропова, отвечавшего за связи с правящими партиями Восточного блока, объяснений. Пытаясь уйти от ответа и дать случившемуся упрощенное толкование, последний заявил о том, что письмо адресовано ЦК КПК и «Албания здесь не причем». Эта ложь вызвала еще больший гнев Ходжи, и он отказался от запланированной на 9 ноября 1960 г. встречи с Хрущевым. Понимая всю опасность складывавшейся ситуации, Кремль решил нейтрализовать возможные резкие действия Ходжи на предстоящем совещании. 10 ноября состоялась встреча Э. Ходжи и М. Шеху с членами Президиума ЦК КПСС и секретарями ЦК А. Микояном, Ф. Козловым, М. Сусловым, П. Поспеловым и Ю. Андроповым, что было обусловлено желанием албанской стороны вывести переговоры на «коллективный уровень». 12 ноября Ходжу принял Хрущев, вместе с которым на встрече присутствовали Микоян, Козлов и Андропов. Как первая, так и последняя беседа закончились скандалом [497].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
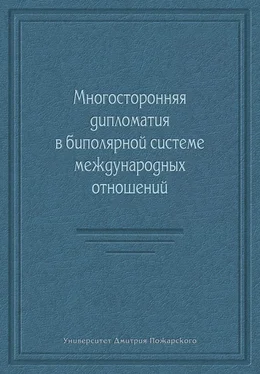






![Коллектив авторов Религия - Старинные рождественские рассказы русских писателей [сборник]](/books/388395/kollektiv-avtorov-religiya-starinnye-rozhdestvenskie-thumb.webp)
![Коллектив авторов - Век диаспоры. Траектории зарубежной русской литературы (1920–2020). Сборник статей [litres]](/books/436984/kollektiv-avtorov-vek-diaspory-traektorii-zarubezh-thumb.webp)