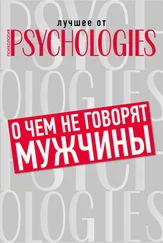Улучшение советско-югославских отношений весной-летом 1955 г. серьезно отразилось на межсоюзнических отношениях Афин, Анкары и Белграда. Глава коммунистической Югославии И. Б. Тито был заинтересован в том, чтобы не допустить нового обострения отношений с Кремлем и постепенно переходил к политике лавирования между Западным и Восточным блоком, видя в этом возможность усиления собственных позиций, рассчитывая на особые отношения с противостоявшими пактами, заинтересованными в увеличении союзников в Европе, и, параллельно пытаясь создать некое внеблоковое движение, в котором Белград мог добиться лидирующих позиций [486].
Визит в Белград премьер-министра Турции А. Мендереса в мае 1955 г. за несколько недель до приезда в Югославию советской партийно-государственной делегации во главе с Н. Хрущевым был призван усилить военно-политическое взаимодействие стран, входящих в Балканский пакт. Однако глава Югославии фактически отказался от этого. Во время Суэцкого кризиса (октябрь 1956 – март 1957 гг.) серьезные расхождения в Балканском пакте по вопросу о его консолидированной поддержке Западного блока привели к тому, что Белград проводил противоположную Анкаре, которая поддержала Великобританию и Францию, и Афинам, фактически занявшим позицию нейтралитета, внешнеполитическую линию и выступил в пользу Каира [487]. Практически Белград солидаризировался с Варшавским договором, балканскими членами которого были Албания, Болгария и Румыния, поддержавшие Египет. Таким образом, Суэцкий кризис серьезно затронул государства региона и тех из них, кто являлся членом Восточного пакта и участвовал в его военно-политических проектах за пределами региона. К числу таких стран относилась Болгария, занимавшаяся реализацией планов коммунистического блока, направленных на военно-техническое обеспечение алжирского сопротивления – Фронта национального освобождения, действовавшего против Франции. Военные поставки и подготовка кадров ФНО в Болгарии, с одной стороны, усиливали значимость Софии по противоположным причинам как для Восточного, так и для Западного блока [488]. В последнем случае руководство Болгарии в лице Т. Живкова рассматривало участие в подобных проектах как серьезный аргумент в пользу привлечения внимания США к своей роли в Варшавском пакте и коммунистическом блоке в целом. Попытки болгарской стороны восстановить разорванные с Вашингтоном отношения, предпринимавшиеся еще с начала 1956 г. конфиденциально по дипломатическим каналам в Париже, к 1957 г. приобрели уже публичность, что нашло свое подтверждение в специальном интервью Т. Живкова американской влиятельной газете «New York Times» в сентябре 1957 г. [489]
Несмотря на то, что союзнические взаимоотношения в Балканском пакте из-за обострения греко-турецких противоречий по кипрскому вопросу в середине и второй половине 1950-х гг. носили неопределенный характер, что давало повод считать трехсторонний договор, лежавший в основе Балканского пакта, недееспособным, он продолжал сохранять свою юридическую силу. В то же время военный потенциал и боевые возможности национальных вооруженных сил балканских членов ОВД без учета находившихся в них до начала 1960-х гг. подразделений вооруженных сил СССР, уступал по ряду параметров военно-техническому, но не кадровому, потенциалу членов НАТО – Греции и Турции, к которым, при определенных обстоятельствах (угроза вооруженной интервенции) могла присоединиться Югославия, обладавшая также одной из наиболее боеспособных армий в регионе. За год до официального подписания документа о создании Организации Варшавского Договора (14 мая 1955 г.) вооруженные силы будущих балканских участников этого блока – Албании, Болгарии и Румынии, по оценкам американской разведки, соответствовавшим во многом реальности, представляли довольно серьезную в региональном масштабе военную силу.
Особую роль в военно-политическом сотрудничестве коммунистических стран играл идеологический аспект, влияя на их оборонную политику. Визит в Югославию партийно-государственной делегации СССР во главе с Н. Хрущевым, состоявшийся 26 мая – 2 июня 1955 г. и принятие совместной Белградской декларации, которая легитимировала нормализацию советско-югославских отношений, был с настороженностью воспринят албанским партийно-государственным руководством, находившимся в резко конфронтационных отношениях с югославской стороной. На официальном уровне глава албанского коммунистического режима Э. Ходжа согласился с подписанным СССР и ФНРЮ документом. Последний факт был отмечен югославской дипломатией, что нашло свое выражение во включении югославским посольством в Тиране в дипломатическое сообщение перевода на сербский язык статьи албанского руководителя «Вклад в дело мира на Балканах», опубликованной в печатном органе Албанской партии труда (АПТ) «Зери и популлит». Примечательным был пассаж о том, что «албанский народ с одобрением воспринял Белградскую декларацию, солидаризируясь с ней, и стремится, чтобы отношения между Албанией и Югославией были нормализованы, были хорошими и дружескими» [490]. В складывавшейся ситуации, как отмечал югославский посланник А. Милатович, в руководстве АПТ начали проявляться признаки недоверия в отношении СССР и усилились колебания по вопросам политики на «югославском направлении». Полученная Милатовичем информация свидетельствовала о наличии в политбюро АПТ различных подходов к албано-югославским отношениям.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
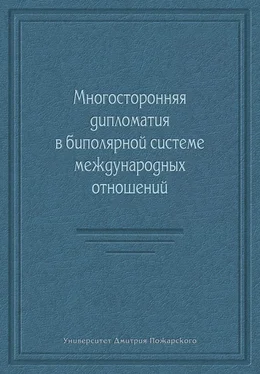






![Коллектив авторов Религия - Старинные рождественские рассказы русских писателей [сборник]](/books/388395/kollektiv-avtorov-religiya-starinnye-rozhdestvenskie-thumb.webp)
![Коллектив авторов - Век диаспоры. Траектории зарубежной русской литературы (1920–2020). Сборник статей [litres]](/books/436984/kollektiv-avtorov-vek-diaspory-traektorii-zarubezh-thumb.webp)