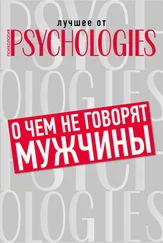Наметившееся в конце 1950-х – начале 1960-х гг. сближение Тираны и Пекина рассматривалось в Москве как реальная угроза советскому доминированию в международном комдвижении и потенциально опасный прецедент, способный негативно повлиять на позиции Кремля в восточно-европейских странах, способствуя появлению соответствующих настроений в руководстве местных компартий. Пытаясь выяснить степень албано-китайского сотрудничества и характер взаимоотношений партийно-государственного руководства Народной Республики Албании и КНР, советское посольство в Пекине активизировало контакты с дипломатическими представителями Албании в этой стране. Свидетельством тому стала серия встреч албанских и советских дипломатов, на одной из которых – 27 июня 1960 г., – советский посол С. Червоненко проявил особый интерес к данной теме и достаточно много рассуждал в разговоре со своим коллегой, послом НРА М. Прифти об этом. Одновременно в центре внимания советских дипломатических представителей в Пекине были оборонные и экономические вопросы.
Состоявшийся 13–20 февраля 1961 г. IV съезд Албанской партии труда стал по-своему знаменательным для международного коммунизма. Уже накануне работы этого форума на Старой площади поняли, что Э. Ходжа взял курс на бескомпромиссное ужесточение отношений с Кремлем [498]. Руководитель Отдела ЦК КПСС по связям с правящими коммунистическими партиями Ю. Андропов заявил перед отлетом в Албанию одному из членов делегации, прогнозируя развитие ситуации, что «обстановка будет тяжелая» [499]. Непосредственно во время работы съезда он охарактеризовал ее как «паршивую» [500]. Открытая поддержка Албанией «особой линии» китайской компартии по вопросам внутренней и внешней политики стала для Москвы уже очевидна окончательно. Усиление изоляции Албании в Восточном блоке создавало проблемы для ее руководства, которое было заинтересовано в том, чтобы не допустить дистанцирования Тираны от СЭВ и ОВД как по политическим, так и экономическим причинам, но, при этом, сохранить полную автономию во внутриполитических делах и определении внешнеполитического курса по отношению к конкретным членам Восточного блока, не входящим формально в него: ФНРЮ и КНР. Конфронтация между Тираной и Москвой усилилась в конце зимы – начале весны 1961 г. Обмен письмами между Главнокомандующим Объединенными вооруженными силами Варшавского договора маршалом СССР А. Гречко и министром обороны НРА генерал-полковником Б. Баллуку (25 февраля, 27 марта, 28 марта), а также памятными записками (22 марта и июнь 1961 г.) [501]свидетельствовали о приближении разрыва между Москвой и Тираной, что, в свою очередь, влияло на отношения Албании с Варшавским блоком [502]. 26 апреля 1961 г. Кремль разорвал договор с Тираной о предоставлении советских кредитов Албании. На заседании Политического Консультативного Комитета ОВД была принята секретная резолюция, требовавшая от албанской стороны предоставить союзникам по пакту подтверждение факта нападения на Албанию со стороны Греции и VI американского флота (о чем заявляло ранее албанское коммунистическое руководство) [503]. Попытка режима Э. Ходжи сделать ссылку на подготовку подобного нападения без предоставления достаточных доказательств, была воспринята в ПКК (при активном участии Москвы в этом процессе) с подозрением. Считалось, что Тирана стремится использовать фактор потенциальной внешней агрессии для оправдания своей позиции в споре с Кремлем. Э. Ходжа постарался в начале июля 1961 г. восстановить сокращавшиеся экономические и оборонные контакты с блоком, но ему это не удалось. Более того, делегация АПТ не была приглашена на встречу компартий стран Варшавского пакта, состоявшуюся в августе того же года.
Ухудшение советско-албанских отношений ускорилось весной 1961 г. После серии конфликтов на военных объектах базы Влеры Москва предприняла радикальные шаги, направленные на ликвидацию военного присутствия в Албании, руководство которой продолжало отказываться от принятия антисталинских идейно-политических тезисов и продолжало проводить избранный курс, направленный на усиление взаимодействия с китайским партийно-государственным руководством. Решение Президиума ЦК КПСС, принятое в марте 1961 г., подтвердило ликвидацию базы во Влере, но было крайне негативно воспринято в Тиране. Албанские власти, пытаясь не допустить ухода ряда военно-морских судов (включая подводные лодки), а также вспомогательной техники, предприняли шаги по ее блокированию с использованием поставленных ранее СССР вооружений (береговой артиллерии, минных заграждений и т. д.). Поэтому выход из территориальных вод базы Влеры оказался для советских военных судов серьезно затруднен и Москва была вынуждена оставить часть плавсредств и судов ВМФ в распоряжении албанцев [504]. Своей кульминации межгосударственный конфликт достиг в октябре 1961 г., когда в своей речи на XXII съезде КПСС Н. Хрущев уже открыто выступил против политической практики и идеологических воззрений руководства АПТ, что вызвало ответную реакцию Э. Ходжи. Последний сделал жесткие заявления в адрес руководства КПСС и лично Хрущева на международной коммунистической конференции 16 ноября 1961 г. В декабре того же года Москва отозвала своих дипломатов из Албании и обратилась к Тиране с заявлением о нецелесообразности пребывания албанского посольства в СССР, что, по сути, означало разрыв дипломатических отношений.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
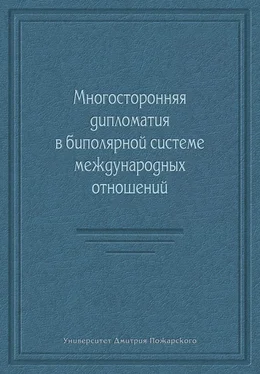






![Коллектив авторов Религия - Старинные рождественские рассказы русских писателей [сборник]](/books/388395/kollektiv-avtorov-religiya-starinnye-rozhdestvenskie-thumb.webp)
![Коллектив авторов - Век диаспоры. Траектории зарубежной русской литературы (1920–2020). Сборник статей [litres]](/books/436984/kollektiv-avtorov-vek-diaspory-traektorii-zarubezh-thumb.webp)