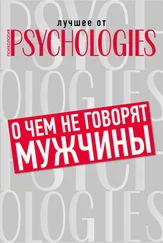Оборонная политика коммунистической Албании в 1950-х гг. базировалась в военно-техническом и экономическом отношениях на массированной помощи со стороны СССР [505], стран Восточного блока и КНР, а в военно-стратегическом – на идеологически оформленной концепции защиты существующего в стране общественно-политического режима от внешней агрессии и обеспечении безопасности как самой Албании, так и Восточного блока, членом которого она являлась [506]. Формулирование военной доктрины Тираной проходило при активном участии Москвы. По сути, она носила оборонительный характер, что подчеркивалось в рекомендательном виде советскими военными инструкторами, читавшими курс секретных лекций в 1956 г. для специально отобранных албанским министерством обороны высших военных чинов албанских вооруженных сил [507]. Именно в это время руководство АПТ и, прежде всего, лично Э. Ходжа, формулирует тезис «враждебного окружения народной Албании», определяя наиболее вероятными угрозами действия со стороны соседних Греции и Югославии, а также государств НАТО, способных использовать Средиземноморье в гипотетически существующих военно-политических планах нападения на страну со стороны ее побережья. Реальность такого развития ситуации была поставлена под сомнение в американских разведывательных кругах еще в 1952 г., что отмечалось в секретном документе «Югославские намерения в отношении Албании» и основывалось на выводе о существовании противоречащих друг другу интересов Греции, Италии и Югославии, «каждая из которых, вероятно, предпочитала сохранить status quo, нежели допустить изменения, выгодные одной из сторон» [508]. Ставка на советское военное присутствие, сделанная албанским партийно-государственным руководством, была призвана, во-первых, обеспечить советские гарантии не допустить военных действий в отношении Албании со стороны ее соседей и отдельных стран Западного блока (США и Великобритании), во-вторых, способствовать обучению военных кадров и в целом албанских вооруженных сил, наконец, в-третьих, создать ключевые объекты оборонной структуры страны, обеспечив вооруженные силы военной техникой. Значимость советско-албанского сотрудничества в этой области демонстрировалась со стороны Кремля фактом назначения на должность главы военной миссии в Албании и военного атташе на протяжении 1953–1956 гг. одного из представителей высшего советского руководства генерал-полковника А. И. Родимцева.
Уже в первой половине 1950-х гг. Москва уделяла особое внимание советскому присутствию в Средиземноморье. Албании предстояло играть важную роль в этих планах. Ответственность в тактическом отношении за данный регион лежала на Черноморском флоте и одна из первых демонстраций советского присутствия состоялась 28 мая – 7 июня 1954 г., когда имел место визит в Албанию отряда кораблей ВМФ СССР под командованием командующего ЧФ адмирала С. Горшкова и включавшего крейсер «Адмирал Нахимов», а также 2 эскадренных миноносца. Серия подобных визитов, состоявшаяся во второй половине 1950-х гг., лишь подчеркивала важность Албании для СССР и Восточного блока. Одновременно, Москва и Тирана заключили договор о строительстве военно-морской базы ВМФ на албанском побережье Средиземноморья. Албания занимала особое место в военно-стратегических планах советского политического и военного руководства. Во второй половине 1950-х гг. Москва продолжала наращивать свое присутствие в Средиземноморье. Осенью 1957 г. новый командующий ЧФ адмирал В. Касатонов обратился с письменным предложением к начальнику Главного штаба ВМФ адмиралу В. Фокину с конкретным планом. В соответствии с ним предполагалось базирование 10–12 советских подводных лодок (с последующей передачей их части албанской стороне) в бухте Паша-Лиман Влерского залива; обеспечить вооруженные силы Албании четырьмя дивизионами противокорабельных ракет «Стрела»; разместить в целях обеспечения прикрытия базы дивизион противолодочных кораблей, противолодочные вертолеты и средства ПВО. Более того, предлагалось разместить в Албании полк бомбардировщиков «Ту-16». С конца лета 1958 г., когда в Паши-Лиман прибыла группа кораблей и подводных лодок как Балтийского, так и Черноморского флотов, началось создание 40-й отдельной базы подводных лодок, оперативное командование которыми осуществлялось отныне командующим Черноморским флотом [509].
Военная база во Влере рассматривалась советским руководством как создающая реальную угрозу средиземноморскому флоту США и силам НАТО в регионе, а также как гарантия свободы прохода советских ВМФ через Босфор в критический момент потенциального конфликта с Западом. 22 апреля 1957 г. в специальной записке в ЦК КПСС относительно приглашения министра обороны Албании Б. Баллуку посетить эту страну, министр обороны СССР Г. Жуков писал: «С своей стороны считаю, что посещение Албании будет очень полезным, особенно в связи с тем, что во время плавания предоставится возможность ознакомиться с наиболее важной для нас частью Юго-Западного театра военных действий: болгаро-турецким направлением, что явится дополнением к проведенной мною рекогносцировке этого направления в сентябре 1956 года, Черноморской проливной зоной и территорией, прилегающей к Эгейскому, Средиземному, Ионическому и Адриатическому морям» [510]. Осенью того же года, будучи в Албании, в специальной телеграмме, направленной в ЦК КПСС 25 октября 1957 г. [511], маршал отмечал что «особого внимания заслуживает вопрос обороны морского побережья Албании и использования его для базирования подводных лодок с целью их действий в Средиземном море. Детально осмотрев порт Влера, строющуюся там базу подводных лодок и линию береговой обороны на Адриатическом море с суши и моря, я пришел к выводу о необходимости серьезного усиления береговой обороны албанского побережья, которое со стратегической точки зрения является исключительно выгодным для всего социалистического лагеря. Такое мероприятие позволит надежно защитить побережье с моря, вести борьбу с противолодочной обороной противника в Отранском проливе, что сможет обеспечить проход наших подводных лодок в Средиземное море» [512].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
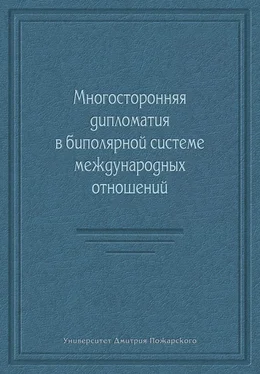






![Коллектив авторов Религия - Старинные рождественские рассказы русских писателей [сборник]](/books/388395/kollektiv-avtorov-religiya-starinnye-rozhdestvenskie-thumb.webp)
![Коллектив авторов - Век диаспоры. Траектории зарубежной русской литературы (1920–2020). Сборник статей [litres]](/books/436984/kollektiv-avtorov-vek-diaspory-traektorii-zarubezh-thumb.webp)