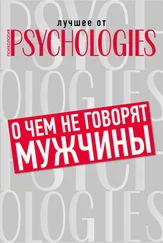Итак, суть дела состояла именно в том, что Рузвельт, задумывая международную организацию безопасности (ООН), никогда и не помышлял о разделе мира или установлении сфер влияния между двумя ведущими державами антигитлеровской коалиции в духе известного «процентного соглашения». Речь шла о другом, а именно, о налаживании тесного взаимопонимания и взаимодействия (по возможности более длительного) внутри Большой тройки, преодолении политических разногласий в сотрудничестве с другими странами, в том числе и с теми, кто еще не определился в своих симпатиях или антипатиях, но уже играл в мировой политике вполне самостоятельную роль.
Здесь не обойтись и еще без одного пояснения. Многочисленные визиты в Советский Союз, европейские страны, на Кубу (длительные беседы с Кастро) убедили Шлезингера, что при всем накале страстей, вызванном пропагандой войны и бдительности против внешней угрозы по обе стороны «железного занавеса», реальная угроза военного конфликта после Хиросимы и Нюрнбергского процесса была относительно невелика. Кубинский кризис, убежден Шлезингер, имел свою тайную историю, о которой многие только догадывались, но которая предопределила его благополучное разрешение. Уже в 1987 г., анализируя всю доступную ему информацию, Шлезингер пришел к выводу: «Два момента внезапно возникли в моей голове: абсолютная решимость Джона Кеннеди избежать военной конфронтации и (менее важное соображение) сомнение в том, что ядерные боеголовки были доставлены на Кубу» [1111].
Ситуация в Европе после 1945 г. в целом имела такой же скрытый, неочевидный для большинства людей подтекст. Вслед за Раймоном Ароном можно было бы сказать, что настоящее озаряет прошлое, что пережившим историю многочисленных кризисов холодной войны участникам событий были недоступны не только важные документы, но прежде всего реальные замыслы и расчеты политиков, военных и разведчиков, которые отличались от пропагандистских клише и публичной словесной дуэли дипломатов [1112]. Шлезингер – некогда один из видных идеологов антисоветизма – последовательно, шаг за шагом мысленно возвращаясь в прошлое вместе со своими близкими и в разное время влиятельными коллегами, друзьями и просто светскими компаньонами, преодолевает многие заблуждения в отношении военных тревог и дипломатических конфликтов ушедшей эпохи. «Дневник» – свидетельство этой внутренней «перезагрузки». Причем, как участник многих событий, долгое время не покидавший ближайшего окружения Э. Стивенсона, Дж. Кеннеди, Л. Джонсона и У. Клинтона, Шлезингер более всего опасался даже не столько прямой фальсификации прошлого, сколько упрощенного его толкования с целью достижения наибольшего пропагандистского эффекта воздействия на «молчаливое большинство», только от случая к случаю узнающего об истории холодной войны.
Дорожить «прямой речью» живых современников драматических эпизодов холодной войны означало для Шлезингера-историка возможность освобождения их описания от различных последующих наслоений, либо нарочито созданных «пустот». Коллекционирование подобных неформальных воспоминаний и суждений – приметная черта «Дневника» Шлезингера. В нем, в частности, приводятся ценные материалы сессии участников проекта «Устной истории» 5–6 декабря 1969 г. в Гарвардском университете, которая в качестве специального гостя заслушала Аварелла Гарримана, выступившего с собственным анализом главных событий в советско-американских отношениях после 1945 г.
Ошеломленный тоном этого анализа Шлезингер оставил в «Дневнике» следующую запись, помеченную 8 декабря 1969 г.: «Воспоминания Гарримана были полны деталей, точны и исключительно интересны. В одном месте он сказал: “О многих вещах, которые Сталин предпринимал в 1945–1950 гг., я прежде думал, что он делал это в целях агрессии, но сегодня я полагаю, что он (Сталин. – В.М .) предпринимал все это в целях обороны“. К этой категории Гарриман относил и Корейскую войну. Ретроспективно он не сомневался, что инициатива ее исходила в большей мере из Москвы, нежели из Пхеньяна, но он был убежден, что ставилась задача укрепить безопасность Советского Союза в регионе частично из-за провала попыток Советского Союза добиться предоставления ему оккупационной зоны на Хоккайдо, а вовсе не потому, что Сталин решил устроить Западу проверку на прочность. Он полагает, что восторженно встреченная речь Дина Ачесона была истолкована Москвой как зеленый свет [1113], а визит Ким Ир Сена в СССР весной 1950 г. подтолкнул северокорейское руководство к решительным шагам. Гарриман добавил, что он не распознал этого аспекта советской политики, пока он не посетил с визитом Тито в августе 1951 г. Тито, который обратился к американцам с просьбой об оружии, объяснил ему свою оборонительную стратегию. Гарриман спросил его, не собирается ли он вновь уйти в горы и партизанить. Тито ответил: нет, он будет сражаться на равнине. Гарриман вновь спросил, рассчитывает ли он (Тито. – В.М .) остановить Красную Армию на равнинных территориях. Тито ответил, что Красная Армия не будет воевать против него: “Сталин никогда не будет использовать советские войска за пределами границ Советского Союза“, стало быть югославской армии придется иметь дело с его сателлитами. Гарриман также сказал, что, как ему кажется, последние действия СССР в Чехословакии по своему характеру тоже были в сущности оборонительными» [1114]. Запись наверняка точно воспроизводила слова Гарримана. Натренированный профессиональный способ мышления Шлезингера цепко удерживал в памяти важнейшие нюансы живой речи собеседника или оратора. Вывод: необязательно быть сталинистом, чтобы признать разумность, оправданность и допустимость целепологания при принятии тех или иных стратегических решений, вытекающих из кризисной ситуации, пускай даже и «патологической формой» власти (М. Фуко) [1115].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
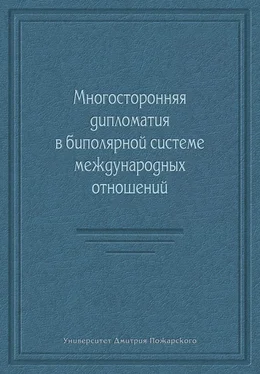






![Коллектив авторов Религия - Старинные рождественские рассказы русских писателей [сборник]](/books/388395/kollektiv-avtorov-religiya-starinnye-rozhdestvenskie-thumb.webp)
![Коллектив авторов - Век диаспоры. Траектории зарубежной русской литературы (1920–2020). Сборник статей [litres]](/books/436984/kollektiv-avtorov-vek-diaspory-traektorii-zarubezh-thumb.webp)