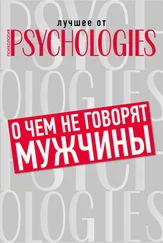Еще невразумительнее звучит утверждение В. Зубока и К. Плешакова о «непредсказуемости» событий, связанных с вторжением на Плайя-Хирон [1092]и привязкой их исключительно к «ошибкам» ЦРУ. Драматический эпизод, с абсолютной достоверностью передающий, что ни для кого никакой не ожиданности не было в том, что США уже давно не могли полагаться на лояльность кубинских эмигрантов и, в сущности, понимали невыполнимость силового принуждения Кубы к дерадикализации, у Шлезингера выписан во всех важных подробностях. Цитируем запись от 21 апреля 1961 г.: «М. Банди напомнил (во время разговора с Дж. Кеннеди. – В.М.), что А. Шлезингер тоже был против экспедиции (речь идет о вторжении на Плайя-Хирон. – В.М.). Кеннеди в разговоре с людьми из ближайшего окружения засвидетельствовал трагизм сложившейся для него самого ситуации, грозившей ему физической расправой. «О, я знаю, – сказал Кеннеди. “Артур вручил мне свой меморандум, который очень ему пригодится, когда он сядет писать книгу о моем президентстве, – правда, лучше бы он не спешил публиковать ее, пока я еще жив!”. Это было сказано в духе типичных для него вспышек сардонического юмора. И добавил: “Я знаю, как можно назвать эту книгу – Кеннеди: эти немногие годы”» [1093].
Европа после кубинской авантюры, свидетельствует Шлезингер, отказывалась воспринимать США как сверхдержаву, проводящую «зрелую, контролируемую и продуманную (intelligent) внешнюю политику» [1094]. Америка, утверждает он, в глазах европейцев предстала как империалистическая страна и (что хуже) как неэффективная империалистическая держава. Под влиянием критики советских методов решения германского вопроса и латиноамериканских «операций» США биполярность отступала, освобождая пространство для новых, многочисленных самостоятельных и влиятельных игроков, решительно отказывающихся видеть в военном превосходстве, в атомной монополии двух сверхдержав средство достижения стабильности на земле и «отбрасывания коммунизма». На смену силовым методам, громыханию оружием, приходило новое понимание значения многосторонних переговоров, компромиссов, а само это понятие переставало быть синонимом умиротворения, «грязным словом», обозначением пустой болтовни или беспричинного соглашательства [1095]. На этом фоне после «работы над ошибками» Кеннеди вырастал в политика новой формации, который, сознательно не порывая с прошлым, чувствовал себя свободно в условиях новых вызовов, в принципе делающих невозможным возвращение к методам и риторике «героического руководства».
Интересно читать у М. Бешлоса, В. Зубока, К. Плешакова и О. Гриневского, как Хрущев своим темпераментом и напором переиграл «неопытного» Кеннеди [1096]на переговорах в Вене 3–4 июня 1961 г. Между тем президент США обдуманно и искусно вел дипломатическую игру на опережение. Его целью было восстановление имиджа США как добропорядочного, миролюбивого члена мирового сообщества, готового выдвинуть и поддержать «меню альтернатив» в ООН, даже если они исходили от движений (вроде движения неприсоединения), которые не только не были дружественно настроенными к США, но скорее критически относились к ним [1097].
Мотивация Кеннеди в противоположность ястребам в высшем эшелоне власти (не плестись тенью за фантомом мирового общественного мнения) была сложным проявлением нового отношения к пацифистским, антиядерным движениям и настроениям, желания соответствовать облику лидера меняющегося мира, который говорит от имени жаждущего избавиться от страха ядерной войны человечества. Пусть Советский Союз продолжает свою политику секретности, заявлял Кеннеди на совещании в Белом доме, – «нам же следует реализовать все возможности сказать свое слово в качестве людской совести» [1098]. Итог известен. Искусственно затормозив проведение новой серии атомных испытаний и «пропуская» вперед Советский Союз, Кеннеди выиграл очень важный раунд в политической войне, взяв своеобразный реванш за утрату доверия к себе после Венских переговоров со стороны американцев, с неудовольствием встретивших его уступчивость.
Итак, вопреки устоявшемуся шаблону, в «Дневнике» Шлезингера Кеннеди не выглядит наивным новичком в дипломатии, своей «растерянностью» спровоцировавшего Хрущева говорить с ним с позиции силы путем отказа от моратория и инициирования новой серии испытаний атомного оружия [1099]. Шлезингер особое внимание обращает на другое, а именно на тот гигантский психологический выигрыш, полученный американской стороной, не давшей «русским сорваться с крючка» и избежавшей «всемирного поношения» [1100]за возобновление первыми испытаний атомного оружия. В сущности была выиграна битва за тех «нейтралов», которые начинали играть роль арбитра в соперничестве двух сверхдержав и чьими позициями уже невозможно было пренебречь.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
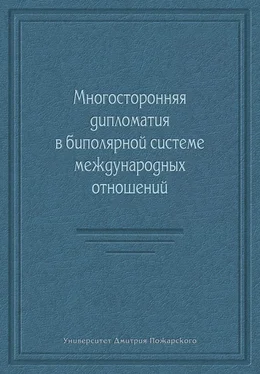






![Коллектив авторов Религия - Старинные рождественские рассказы русских писателей [сборник]](/books/388395/kollektiv-avtorov-religiya-starinnye-rozhdestvenskie-thumb.webp)
![Коллектив авторов - Век диаспоры. Траектории зарубежной русской литературы (1920–2020). Сборник статей [litres]](/books/436984/kollektiv-avtorov-vek-diaspory-traektorii-zarubezh-thumb.webp)