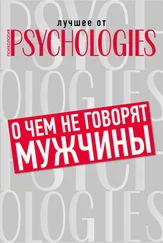В Москве ценой взаимных уступок удалось достичь временного компромисса между КПСС и КПК. Удалось избежать переведения споров в публичную плоскость, хотя различие позиций, проявившееся на совещании, предвещало последующее, довольно скорое расхождение компартий двух больших коммунистических держав. Не создавала серьезной угрозы единству коммунистического движения «диссидентская» позиция ПОРП по ряду вопросов, явившаяся запоздалым отголоском «польского Октября» 1956 г. В то же время, закончилась явной неудачей очередная попытка хрущевского руководства теснее привязать к СССР и советскому блоку режим Тито в Югославии. Через несколько месяцев, с принятием весной 1958 г. новой программы СКЮ, была развязана антиюгославская кампания, явившаяся важнейшей составной частью более широкой кампании борьбы с ревизионизмом, охватившей все международное коммунистическое движение. Она, конечно, не достигла остроты периода конца 1940-х – начала 1950-х гг. С другой стороны, именно критика югославского ревизионизма стала во время следующего большого совещания компартий, проведенного в ноябре 1960 г., общей компромиссной платформой, способной на считанные месяцы отсрочить открытый конфликт КПСС и КПК [1082].
В дальнейшем именно совещания компартий (как узкие – совещания представителей партий социалистических стран – так и более широкие) становятся важнейшей формой координации коммунистического движения, а также многосторонней дипломатии в рамках стран социалистического лагеря. Достигнутое на московских ноябрьских совещаниях 1957 г. единство коммунистического движения на общей платформе, приемлемой для КПСС, явившись несомненным тактическим успехом Москвы, было совсем недолговечным. На следующем большом совещании, состоявшемся в конце 1960 г., КПСС и КПК, по сути дела, уже только имитировали единство. С начала 1960-х гг, в условиях ширящегося советско-китайского конфликта, проблема созыва последующих совещаний компартий становится предметом острой борьбы между КПСС и КПК, стремившихся в целях осуществления собственных геополитических и идеологических амбиций заручиться поддержкой тех или иных отрядов мирового коммунистического движения. В гораздо большей мере, нежели во времена Коминформа, в подготовке совещаний проявились механизмы многосторонней дипломатии, преследовавшие своей целью как открытую манипуляцию крупных партий малыми, так и выражение целей и интересов отдельных партий, способных в новых условиях лавировать между двумя центрами притяжения мирового коммунистического движения – Москвой и Пекином.
Мальков В. Л. Сверхдержавы и третьи страны в условиях перехода от коалиционной войны к войне холодной. Записки о новейшей историографии
История, исторические факты, каждый в отдельности и в совокупности – это «нечто, – как говорил Люсьен Февр, – подлежащее объяснению. Пониманию. И стало быть осмыслению». И продолжал: «Историк, отказывающийся осмыслить тот или иной человеческий факт, историк, проповедующий слепое и безоговорочное подчинение фактам, словно они не были сфабрикованы им самим, не были заранее избраны во всех значениях этого слова (а он не может не избирать их), – такой историк может считаться разве что подмастерьем, пусть даже превосходным. Но звания историка он не заслуживает» [1083]. Это глубокое суждение великого историка еще раз подтверждает оправданность заметного перенесения акцентов в изучении истории холодной войны (и в особенности ее раннего периода) на проблемы осмысления накопленных знаний, в контексте новой познавательной ситуации, их перепроверки опытом и новыми архивными материалами, критического отбора идей, их соотнесения с наследием прошлого и запросами современности.
Историография холодной войны огромна и многолика. Она имеет национальный колорит и разнонаправленное назначение, а также свойство к расширению за счет прибавления все новых и новых сегментов и объектов изучения. Любой ее обстоятельный обзор сопряжен с большими трудностями и, в сущности, неосуществим, если даже стремиться привлечь только наиболее значительные труды, в особенности те, в которых рассматривается сложный узел взаимоотношений сверхдержав и третьих стран в послевоенном мире [1084]. Данное обстоятельство объясняет, почему нами избрано, так сказать, выборочное рассмотрение некоторых, по нашему мнению, наиболее значительных трудов современных зарубежных авторов, отмеченных новизной и концептуальной цельностью и заслуженно признанных креативными и провоцирующими.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
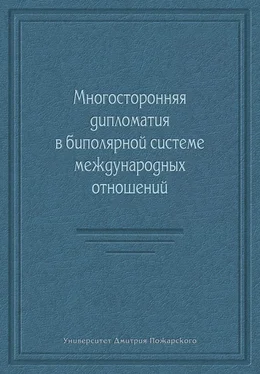






![Коллектив авторов Религия - Старинные рождественские рассказы русских писателей [сборник]](/books/388395/kollektiv-avtorov-religiya-starinnye-rozhdestvenskie-thumb.webp)
![Коллектив авторов - Век диаспоры. Траектории зарубежной русской литературы (1920–2020). Сборник статей [litres]](/books/436984/kollektiv-avtorov-vek-diaspory-traektorii-zarubezh-thumb.webp)