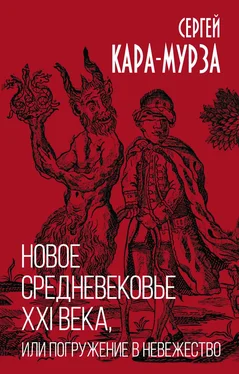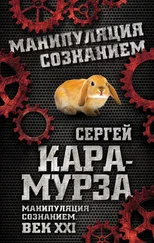Это их дело, но мы должны понять процесс, который в течение сорока лет загружал в сознание массы студентов и читателей очевидные ошибки (или ложные идеологические догмы). И главное — люди читали, писали диссертации и не пытались произвести анализ.
Индексы «инвестиций в человеческий капитал» населения РСФСР и РФ (1970 г. = 100): 1989 г. — 270, 2000 г. — 50. В 1996 г. к лишению свободы приговорено 360 тыс. чел. и с отсрочкой исполнение приговора 200 тыс. (т. е. всего 560 тыс.); в 1997 г. в РФ зарегистрировано 1,14 млн тяжких и особо тяжких преступлений (раскрываемость 60,7 %).
С. Л. Франк писал в сборнике «Вехи»: «Эта характерная особенность русского интеллигентского мышления — неразвитость в нем того, что Ницше называл интеллектуальной совестью, — настолько общеизвестна и очевидна, что разногласия может вызывать, собственно, не ее констатирование, а лишь ее оценка».
В своем проекте «конституции» 1989 г. А. Д. Сахаров писал: «В долгосрочной перспективе Союз стремится к конвергенции социалистической и капиталистической систем… Политическим выражением такого сближения должно стать создание в будущем Мирового правительства».
В. Г. Белинский писал: «Чужое, извне взятое содержание никогда не может заменить ни в литературе, ни в жизни отсутствия своего собственного, национального содержания. … Мы, наконец, поняли, что у России была своя история, нисколько не похожая на историю ни одного европейского государства, и что ее должно изучать и о ней должно судить на основании ее же самой, а не на основании историй, ничего не имеющих с нею общего, европейских народов» [420].
Р. Пайпс пишет, что после разгона Учредительного собрания большевиками «массы почуяли, что после целого года хаоса они получили, наконец, “настоящую” власть. И это утверждение справедливо не только в отношении рабочих и крестьянства, но парадоксальным образом и в отношении состоятельных и консервативных слоев общества — пресловутых “гиен капитала” и “врагов народа”, презиравших и социалистическую интеллигенцию, и уличную толпу даже гораздо больше, чем большевиков» [423].
Флоровский Г. В. (1893–1979, Принстон, США) — философ и священнослужитель.
Надо отметить, что в конце 1980-х годов антисоветский дискурс «новых либералов» опирался на антироссийские и антигосударственные концепции марксизма, которыми были индоктринированы меньшевики и кадеты. В изданной в 1998 г. по материалам прошедшей в МГУ конференции книге «Постижение Маркса» в статье В. А. Бирюков констатировал: «Очередным парадоксом в судьбе марксизма стало широкое использование многих его положений для идеологического обоснования отказа от того социализма, который был создан в десятках стран, для перехода от социализма к капитализму в конце XX века. Закон соответствия производственных отношений уровню и характеру развития производительных сил, экономический детерминизм, закономерный характер развития общества в форме прохождения определенных социально-экономических формаций, марксистская трактовка материальных интересов как движущей силы социальных процессов и многое другое из арсенала марксизма было использовано для идеологической подготовки смены одного строя другим» [64].
Полезно посмотреть, что Германия пошла по другой дороге, а не пути Маркса. В 1913 г. американский историк Р. Элмер опубликовал книгу об экономической политике Германии — он назвал ее политикой « монархического социализма ». А экономика Третьего рейха — период 1933–1945 гг., при котором управление народным хозяйством страны и способом его включения в международное разделение труда осуществлялось в соответствии с национал-социалистическими доктринами Третьего рейха. В системе категорий экономической теории экономика нацистской Германии представляла собой государственно-монополистический капитализм .
Эйнштейн даже напомнил в феврале 1947 года: «Известно, что политика США после окончания войны породила страх и недоверие во всем мире. Разрушение крупных японских городов без предупреждения, наращивание производства атомных бомб, эксперименты на Бикини, ассигнование многих миллиардов долларов на военные расходы при отсутствии внешней угрозы, попытка милитаризовать науку — все это лишило возможности возникновения взаимного доверия между нациями» (см. [116]).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу