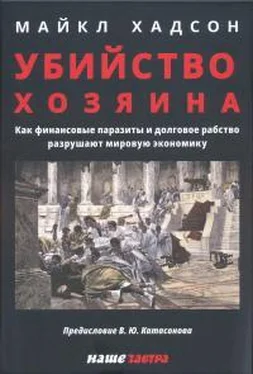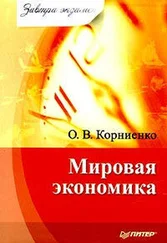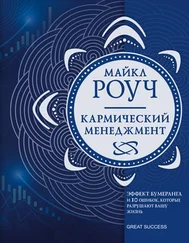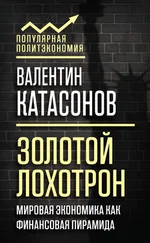Сможет ли финансовый пессимизм победить промышленный оптимизм?
После Первой мировой войны банковское дело в большинстве стран мира стало придерживаться англо-голландской модели, Германия не только проиграла войну, но и стала свидетелем, как послевоенные лидеры Европы отвергли её философию промышленного банкинга и предостережения против хищнических финансов. Вместо правительств, координирующих промышленное планирование, выработку корпоративной и государственной политики взяли на себя финансовые круги. Банкиры и финансовые менеджеры втягивают экономику в долги, не создавая новых средств производства, чтобы оплачивать свои долговые накладные расходы, растущие как грибы. Промышленность финансиализировалась, и планирование оказалось сосредоточено на Уолл-стрит, в Лондоне, на парижской бирже и во Франкфурте, но не в руках общественности, как ожидали социалисты или инженеры-промышленники по прогнозам Веблена. Рынки акций и облигаций превратились в арены для привлечения заёмных средств в качестве постиндустриальных средств присвоения собственности. Основными финансовыми инновациями в 1980-х годах стали корпоративные «мусорные» облигации, а в 2000-х годах — «мусорные» ипотеки и комплексные финансовые деривативы.
Несмотря на то, что рост производительности снизил прямые издержки производства, цены продолжали расти главным образом в результате устойчивого наращивания финансовых издержек (процентов, сборов и страхования), а также рентной платы за недвижимость и монопольного ценообразования. Эти издержки росли не за счёт увеличения денежной массы в обращении, а из-за того, как финансовая система наращивает долговые накладные расходы. Проценты и погашение задолженности были встроены в затраты на ведение бизнеса и во всё большей степени — в прожиточный минимум, за счёт расходов на товары и услуги, инвестиции и занятость. Рост цен усугубляется извлекающей ренту приватизацией государственной инфраструктуры с целью создания частных состояний рантье за счёт хищнических цен на основные виды услуг.
Цель финансиализированной экономики — зарабатывать деньги для узкого финансового слоя общества, создавая кредитную удавку для промышленности и рабочей силы, а также для самого правительства. Это меняет на обратное направление, в котором, казалось, двигалась классическая политическая экономия, стремившаяся вытянуть государства из феодальной эпохи путём улучшения способа, с помощью которого общество использует и накапливает богатство. В современной версии «первоначального накопления» феодальной эпохи посредством военных захватов финансовая динамика служит концентрации благосостояния путём повышения использования заёмных средств (долгового рычага) и приватизации, нагружая долгами промышленность, недвижимость и инфраструктуру.
ЧАСТЬ II
Уолл-стрит как центральный плановик
ГЛАВА 8
Фондовый рынок
как арена хищников
Говорят, что американец редко вкладывает деньги, как это до сих пор делают многие англичане, «ради дохода». И он неохотно покупает инвестиции, кроме как в надежде на прирост капитала.... Иными словами, он выступает как спекулянт в отмеченном выше смысле. Спекулянты не приносят вреда, если они остаются пузырями на поверхности ровного потока предпринимательства. Однако положение становится серьёзным, когда предприятие превращается в пузырь в водовороте спекуляций. Когда расширение производственного капитала в стране становится побочным продуктом деятельности казино, работа, скорее всего, будет сделана плохо.
Джон Мейнард Кейнс «Общая теория занятости, процента и денег» (1936 г.), Глава 12, §VI
Уолл-стрит освещает свою деятельность в максимально позитивном свете, как если бы они оправдывались, что тамошние огромные заработные платы зарабатываются продуктивно, а не за счёт всей экономики. Такая картинка с улыбающимися лицами также служит для обоснования их налоговых льгот, а в последнее время — и срочных мер финансовой помощи. Научные модели вторят мнению о том, что рынки акций и облигаций привлекают средства главным образом для новых инвестиций в промышленность, инноваций и роста занятости, одновременно делая вкладчиков богаче.
Хотя в истории финансы редко играли продуктивную роль в финансировании образования капитала для промышленных предприятий, оборудования, научных исследований и разработок. С древности мастерские и фабрики, фермы и другие капитальные активы традиционно финансировались за счёт собственных средств. До начала промышленной революции средства производства находились в прямой неограниченной собственности. Идея производственного кредита для финансирования новых инвестиций в средства производства была чуждой концепцией вплоть до середины 19-го века, и даже тогда инвестиции предназначались в основном для железных дорог и каналов, а не для промышленности. Кредитные соглашения использовались для преодоления временного разрыва между производством и продажей, посадкой и сбором урожая и особенно для торговли на больших расстояниях. Но не для инвестирования в производство.
Читать дальше