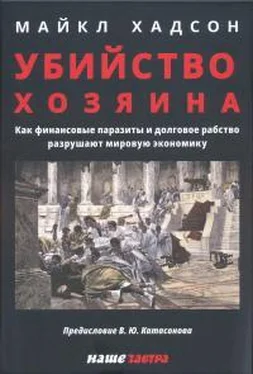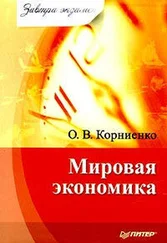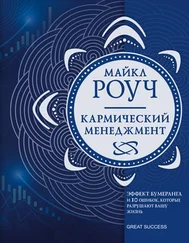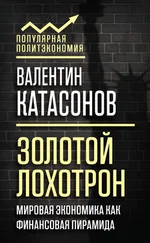Маркс ожидал, что всё более капиталоёмкое производство потребует большего объёма кредитования. Вопрос состоял в том, как его предоставлять. Маркс, веря в движущую силу технического развития, утверждал, что судьба промышленного капитализма состоит в модернизации финансов, то есть превращении ростовщического кредитования в продуктивное промышленное банковское дело. Финансовые учреждения должны были стать средством планирования обществом будущего, поскольку банки будут реинвестировать свои процентные доходы в новые кредиты для расширения средств производства и выплаты процентов из прибыли.
Как выяснилось, Маркс оказался слишком большим оптимистом. В сущности, никто в его эпоху не был настолько пессимистичен, чтобы предвидеть, что банковское дело будет вести себя так, как сегодня, грабя капитал и увеличивая финансовые издержки производства. Маркс ожидал, что промышленные капиталисты будут формировать финансовые системы для удовлетворения своих потребностей, и предполагал, что выживут наиболее продуктивные банковские системы, чтобы служить промышленному хозяину и в своё время обобществить финансы. И действительно, казалось, что так и произошло в Германии, где «государственный социализм» Бисмарка нашёл свое финансовое выражение в рейхсбанке и других крупных промышленных банках, которые стали частью «троицы», включающей банковское дело, тяжёлую промышленность и правительство.
Возникновение немецкого промышленного банковского дела
Немецкая Историческая школа экономистов была одной из самых оптимистичных в своих ожиданиях того, что финансы будут способствовать промышленному процветанию. Вильгельм Рошер указывал на тот факт, что процентные ставки имеют тенденцию неуклонно падать с развитием цивилизации; по крайней мере, ставки падали со времён средневековья. На смену ростовщичества с его вековыми проблемами пришла более социально продуктивная кредитная система. Законы о кредитовании становились всё более гуманными, по мере того как по всей Европе число долговых тюрем постепенно сокращалось и одновременно более мягкие законы о банкротстве освобождали людей от необходимости начинать всё заново с нуля.
Немецкая промышленность, не имея средств, необходимых для масштабного расширения, полагалась на банки с широким спектром долгосрочных инвестиций и краткосрочного финансирования. Признавая, что реинвестирование прибыли в расширение производства ограничивало способность выплачивать проценты, банки охотно принимали часть своего дохода в более доходных обыкновенных акциях, то есть в акционерном капитале, а не в виде процентов по прямым займам. За этим идеалом сенсимонизма последовала простая наиболее прагматичная и прибыльная практика.
В Германии самым важным источником капитала стали владельцы банков, а не вкладчики, как в Британии (средний класс немецких вкладчиков возник лишь постепенно). Этот акцент на собственном капитале владельца побуждал немецкие банки к сопротивлению спекулятивным крайностям, обнаружившимся в американских финансах того периода. Кредиты и выпуски облигаций удерживались «на фактической денежной стоимости имущества финансируемой корпорации».
На другом конце спектра задолженности американские финансисты занимались разводнением акций, которые перефинансировали компании выпусками облигаций далеко за рамками их потребностей или способности выполнять свои обязательства. Разницу директора этих корпораций клали себе в карман, поэтому многие честные представители отрасли держались подальше от Уолл-стрит. Мошенничество было почти встроено в систему. Отличительной чертой «позолоченного века» Америки являлась способность инсайдеров не допускать законодательного закрепления финансовых проверок и на практике сделать безрезультатными попытки в этом направлении.
Не промышленность, а железные дороги (европейские страны сохранили их в государственной собственности) заложили основу фондового рынка Америки, который в основном использовался для создания трестов и монополий. Его героями были инсайдеры, свои люди, сколачивавшие состояния рейдами на фондовых рынках, политиканством при раздаче земли, манипулированием ценами на акции и выпуском облигаций для себя (и дружественных политиков и законодателей). Как оказалось, именно финансовая система победила в борьбе за выживание.
Первая мировая война и спор о немецком банковском деле по сравнению с англо-голландским
Читать дальше