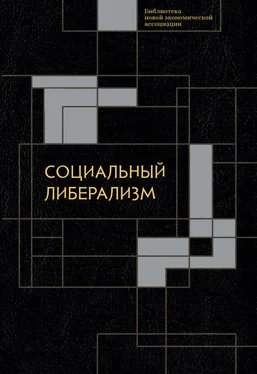Эта модель, опубликованная в «рабочих тетрадях» [Shefrin, Thaler, 1978], восходит к более раннему исследованию, где Р. Шифрин и У. Шнейдер, рассматривая гипотезу о наличии у человека двух когнитивных систем, обнаружили «борьбу разума с интуицией» – прообраз будущих моделей с множественностью «Я» [Schneider, ShifFrin, 1977].
Отвлекусь на небольшой комментарий. Несмотря на австрийский вердикт de jure «В приложении к конечным целям деятельности понятия “рациональный” и “иррациональный” неуместны и бессмысленны» [Мизес, 2005, с. 22], de facto Мизес подтверждает мери-торные аргументы иррационального поведения: «Разумеется, всегда будут существовать индивиды или группы индивидов, интеллект которых настолько ограничен, что они неспособны осознать выгоды, которые предоставляет им общественное сотрудничество. Моральные устои и сила воли других настолько слабы, что они не могут сопротивляться искушению добиться эфемерных преимуществ посредством действий, наносящих вред ровному функционированию общественной системы. Ибо приспособление индивида к требованиям общественного сотрудничества требует жертв. Конечно, эти жертвы временны и мнимы, так как с лихвой компенсируются несравненно большей выгодой, которую обеспечивает жизнь в обществе. Однако в данное мгновение, в течение самого акта отказа от ожидаемого наслаждения, они являются болезненными, и не каждый может осознать их будущую выгодность и вести себя соответственно» [Мизес, 2005, с. 140]. И тот же Мизес страницей раньше пишет: «Утилитарист… не требует от человека отказа от собственного благополучия ради общества. Он рекомендует ему осознать, в чем состоят его правильно понимаемые интересы» [Мизес, 2005, с. 139]. Но как все-таки быть с теми, кто не могут осознать правильно понимаемые интересы и будущую их выгодность? Не должно ли в этом случае общество создавать условия, чтобы люди могли «вести себя соответственно»?
В стандартном примере поведенческих экономистов у потребителя есть выбор между комплексным обедом и заказом по меню. При этом умалчивается, на основе чего формируется комплексный обед (нормативный стандарт), к которому подталкивается потребитель. Пусть в мягкой форме, но и здесь индивидууму навязываются определенные предпочтения.
Теория опекаемых благ, вслед за мериторикой, рассматривает и такие товары (к примеру, наркотики или алкоголь), индивидуальный спрос на которые ограничивается государством. Замечу также, что нормативные установки государства, как уже отмечалось, далеко не всегда направлены в сторону общественного благополучия. Примеров тому в истории слишком много. Подчеркну другое. В этом вопросе теория опекаемых благ [Рубинштейн, 2013, с. 45–46] стоит фактически на одинаковых позициях с австрийской школой: «Зло, причиняемое плохой идеологией, разумеется, гораздо губительнее как для индивида, так и для общества в целом, чем наркотики» [Мизес, 2005, с. 687].
Отмеченная Ходжсоном тенденция вкладывать разный смысл в одно и то же понятие проявилась и в отношении категории «методологический институционализм». С. Кир дина, например, так характеризует этот принцип: «В настоящее время “методологический институционализм” представляется нам достаточно адекватной оппозицией принципу методологического индивидуализма и по смыслу, и по названию» [Кирдина, 2013 а, с. 37]. Ходжсон же, использовавший это понятие, никак не имел в виду оппозицию методологическому индивидуализму. Скорее наоборот, он отождествлял «методологический институционализм», «методологический структурализм» с «методологическим индивидуализмом» [Hodgson, 2007, р. 219–220]. Впоследствии, правда, Кир дина изменила свою трактовку «методологического институционализма», придав ему, по сути, релятивистское содержание и обнаружив в данном принципе потенциал социального анализа на мезоуровне [Кирдина, 2015, с. 8].
Именно данную разновидность «измов», по-видимому, исповедует Тамбовцев, не ведающий в том сомнений и считающий иные взгляды искажением базового методологического принципа [Тамбовцев, 2008, с. 132; Тамбовцев, 2013, с. 45]. Такую же, крайнюю, позицию занимает Е. Балацкий: «…хотелось бы присоединиться к мнению В. Тамбовцева о том, что методология индивидуализма, а соответственно, и либертарианства, многими исследователями намеренно искажается» [Балацкий, 2014, с. 19]. Замечу, что в этом не слишком корректном «намеренно искажается», сам Балацкий, осуждающий «обличение явных и мнимых пороков либерализма… в форме оскорблений и обзываний» [Балацкий, 2014, с. 19], при рассмотрении альтернативных взглядов изменяет указанным правилам ведения научной дискуссии.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу