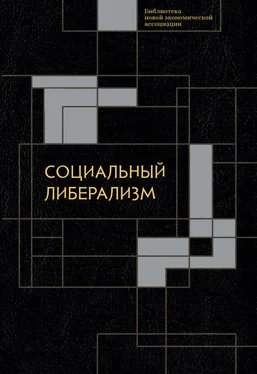Социологическая и экономическая теории; имеющие общие исторические корни часто имеют дело с аналогичными методологическими проблемами; и принцип методологического индивидуализма иллюстрирует это наиболее отчетливо. Так; экономист Й. Шумпетер; ученик социолога М. Вебера; обозначил в экономической теории подход своего учителя; назвав его в 1908 г. «методологическим индивидуализмом» [Тамбовцев; 2008; с. 132] (см. также Udehn; 2001; р. 214]). Именно социологу Веберу принадлежит приоритет в теоретической разработке этого принципа; на него ссылался Шумпетер в своих работах.
Сравнительный анализ использования принципа методологического индивидуализма в разных школах экономической мысли и в основных исследовательских парадигмах см. [Кирдина, 2013а].
Противостоящая мейнстриму гетеродоксная экономика включает направления, «не опирающиеся на набор далеких от жизни исходных предпосылок ортодоксии» [Dequech, 2007, р. 295]. Общее для нее – явно или неявно разделяемый «взгляд на социальную реальность как открытую, процессуальную и внутренне взаимосвязанную [Lawson, 2006, р. 497].
Нельзя не заметить, что при так понимаемом холистическом подходе поведение индивида (а именно – «коллективного индивида») продолжает оставаться основным предметом экономического анализа. Поэтому более точной версией методологического холизма, по-моему, следует признать так называемый методологический институционализм. Он предполагает способ объяснения, который Блауг называл моделированием структур (pattern modeling ), ибо он основан на объяснении событий и действий посредством указания их места в структуре взаимосвязей, характеризующей экономическую систему как целое (подробнее о принципе методологического институционализма см. [Кирдина, 2013а, 20136, 2013в]).
Здесь его позиция, по сути, совпадает с точкой зрения Гидденса.
На этой фундаментальной предпосылке зиждется модернизированная ГР мериторика: идея «опекаемых благ» как довольно широкого круга благ, вменение потребления (или, напротив, ограничение или запрет потребления) которых приносит положительный эффект обществу, не осознаваемый на уровне индивидуальных интересов. В этой части авторы – не новаторы, а скорее, эпигоны поведенческой экономики с ее упором на всесторонний патернализм, декларирующим знание «истинных» рациональных интересов индивидов (критический разбор постулатов поведенческой экономики представлен в работе Р. Капелюшникова [Капелюшников, 2013]).
Например, возьмем классическую дилемму заключенного, используемую для оправдания функций государства в деле поставки общественных благ. Если хорошо подумать, то невозможно найти такое общественное благо, появление которого не оказалось бы одновременно потерей выгоды хотя бы для одного человека. Убежденный пацифист против услуг обороны, анархист, в принципе, против любой деятельности государства, и даже если представить ситуацию, что земляне уничтожают громадный метеорит, несущий смерть их планете, то готовящий самоубийство человек был бы против такого решения вопроса. Во всех названных случаях традиционное «чистое» общественное благо выступает с точки зрения названных персонажей как антиблаго или отрицательная полезность. Так что никакого Парето-улучшения в результате появления общественных благ не происходит; всегда найдутся те, кто против.
«Результат умственных усилий людей, т. е. идеи и ценностные суждения, направляющие действия индивидов, нельзя проследить до их причин, и в этом смысле они являются конечными данными» [Мизес, 2007, с. 67].
Ф. Хайек в статье «Интеллектуалы и социализм» обратил внимание на эту особенность возникновения и распространения идей. «Социализм нигде и никогда не был изначально рабочим движением». И далее он писал о нем: «Это построения теоретиков, выросшие из некоторых тенденций развития абстрактных размышлений, с которыми были знакомы только интеллектуалы. И прежде чем удалось убедить рабочий класс включить социализм в свою программу, потребовались длительные усилия интеллектуалов» [Хайек, 2012, с. 229–230].
Попутно замечу, что противоположный подход Мизес презрительно называл «химерой совершенного состояния человечества», относя сюда не только доктрины идеального общества (подобные коммунизму у Маркса), но и вальрасовскую концепцию общего равновесия. «Предположение о том, что история устремлена к осуществлению совершенного состояния, равносильно утверждению, что история скоро закончится» [Мизес, 2007, с. 324].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу