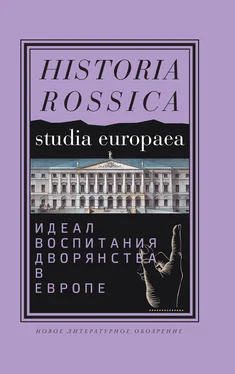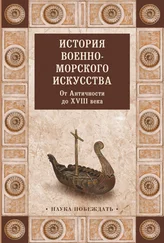Какие-то признаки сопротивления реализуемой в корпусе культурной программе мы находим с трудом. Возможно, как проявление культурного конфликта можно расценить поступок кадет Березина и Коровина, которые в 1733 году не вернулись из отпуска, отправившись вместо этого в Никольский монастырь постригаться в монахи; тогда же кадет Горетчанов сбежал «для моления в Тихвин по обещанию своему» [722]. Такие поступки, однако, являлись единичными. Другое дело, что попытки регламентировать повседневную жизнь в корпусе имели, несомненно, лишь ограниченный эффект: дела о дисциплинарных нарушениях явно показывают, что, несмотря на декларируемый идеал регулярности, кадеты имели возможность вести весьма «нерегулярную» жизнь и в корпусе, и за его пределами. Кадеты напивались, посещали так называемые «вечеринки», включая и аристократический бордель пресловутой Дрезденши, закрытый правительством в 1750 году [723]. Отдельным источником «нерегулярности», судя по всему, были кадетские крепостные «хлопцы», жившие в корпусе и тут же обстирывавшие своих господ и готовившие для них, а также кадетские собаки, которым корпусной гофмейстер безуспешно пытался закрыть доступ в трапезную. По словам последнего, «от тех собак кала, костей, и проч. великой в камерах смрадной и тяжелой дух, что удивляюсь как живут, а постороннему человеку и войти неприятно, от того ж приемлют покои гнилость и худобу» [724]. И крепостные хлопцы, и собаки были ярким символом того самого «нерегулярного» помещичьего, деревенского быта, на преодоление которого и был нацелен корпус. Вместе с тем посетивший заведение как раз в те же самые годы, в середине 1730‐х годов, шведский путешественник К. Р. Берк не заметил какого-то особенного беспорядка: наоборот, ему бросились в глаза «хорошее» содержание кадет, «этих чудесных юношей», их «чистые и опрятные комнаты» [725].
Позволяло ли обучение в корпусе приобрести некоторый общий культурный багаж, и если да, то какой именно? Преподавание в корпусе, как известно, было устроено не вполне привычным для современного читателя образом: кадеты переходили из класса в класс по каждому отдельно взятому предмету индивидуально, по мере постижения наук. Говоря иначе, кадет мог продвинуться до высших ступеней в иностранном языке, но оставаться на базовом уровне в арифметике, и наоборот. Стандартной продолжительности усвоения того или иного предмета при этом не было предусмотрено, не существовало и некоторой «программы» – кадет выучивал то, что успевал за годы пребывания в корпусе. Фактически его итоговая оценка (и оценки на промежуточных и генеральных экзаменах) представляла собой описание того уровня, которого кадет достиг по каждому из изучаемых предметов. Охарактеризовать некоторый образовательный уровень выпускающихся кадет поэтому сложно; попробуем сделать это на основе экзаменационных ведомостей 1738 года. К этому времени поступившие в 1732 году кадеты (те из них, кто не был отчислен или выпущен ранее), как правило, изучали немецкий язык – на совсем базовом уровне, «переводит с немецкого на российский легких авторов», или же более продвинутом, «учит разговоры и вокабулы и говорит по-немецки изрядно»; рисовали (от «рисует красным карандашом» до «рисует ландшафты красками»); могли танцевать менуэт. Это наиболее стандартный набор предметов, которые русские кадеты начинали изучать с самого поступления в корпус. Спустя три-четыре года после поступления к ним добавлялись верховая езда («обучается в позитурах, тротирует и галопирует»), фехтование, фортификация – обычно черчение укреплений («рисует регулярные и нерегулярные крепости и профили», но чаще лишь минимальное «начинает чертежи»). Более способные кадеты могли изучать также французский (чаще всего на уровне «переводит с французского на русский»), геометрию (вплоть до «планиметрию, стереометрию и тригонометрию с некоторыми доказательствами знает», хотя и редко). В таких «продвинутых» предметах, как история и география, экзаменовались лишь считаные русские кадеты. Редко встречается в ведомости арифметика – надо полагать потому, что проучившимися несколько лет кадетами она уже была освоена как необходимая для дальнейшего изучения геометрии и фортификации; не учили русских кадет, как кажется, и «русскому штилю» – в отличие от немцев, которым его преподавали как иностранный язык [726].
Разумеется, встречались исключения. Адам Олсуфьев, один из лучших учеников, в 1739 году писал «экстемпоре» по латыни; «компоновал» на французском и переводил с немецкого на французский «экстемпоре весьма изрядно»; рисовал миниатюры; знал русскую историю; имел «начало доброе» в математической географии; фехтовал; обучался «филозофии рационалис» и освоил часть «юс натуре»; освоил всеобщую историю «до окончания Каролевой фамилии» [727]. Однако типичным, видимо, следует считать уровень, достигнутый Николаем Неплюевым, который, по мнению начальства, «к наукам прилежал нарочито, но в том успех имел посредственный». К 1751 году Неплюев (поступивший в 1744 году) окончил арифметику и «нетвердо» геометрию, «посредственно» выучил фортификацию; мог переводить на немецкий и говорить на нем «нарочито», «посредственно» овладел немецким письменным «штилем», начал переводить «худо» с немецкого на французский. Неплюев освоил на немецком историю (до императора Тиберия) и географию; и то и другое «нетвердо». Зато молодой человек «нарочито» рисовал «ландшафты и картуши тушью», «нарочито» фехтовал, «хорошо» танцевал польский, менуэт и ездил верхом [728]. Описанный набор предметов и составлял, видимо, тот общий культурный багаж, который большинство молодых дворян выносило из корпуса.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу