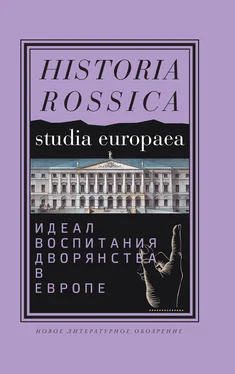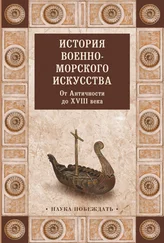С точки зрения конструирования в корпусе особой модели повседневности существенно уже само наличие здесь устава и штата, регулирующих внутреннее устройство школы; кроме того, корпус – также в отличие от более ранних школ – был воинской частью, а значит, там действовали и военно-административные правила. Неизбежным следствием стала куда более высокая, чем в петровских училищах, степень регламентации и бюрократизации внутренней жизни. В корпусе проводились регулярные утренние совещания старших офицеров, на которых обсуждались сношения с разными инстанциями, внутренние назначения, хозяйственные вопросы [699]. Обязанности учителей фиксировались в контрактах-капитуляциях [700], велся учет их отлучкам и опозданиям, на основании чего составлялись третные доклады, дабы обер-профессор «о прилежности или неприлежности их свидетельства учинить мог» [701]. Примечательно уже само появление должности «обер-профессора», призванного надзирать за учителями и обеспечить преподавание «по лутчей и самой лехкой методе» (хотя при этом и «не чинить […] в том без ведома командира никакой перемены») [702].
Тенденция к регламентации поведения кадет была, таким образом, в известной мере заложена уже в самой модели управления в корпусе. Вместе с тем совокупность отдельных регулирующих действий – зачастую появляющихся в ответ на конкретные нарушения дисциплины – складывается в попытку выстроить в школе определенный образ жизни, приличный истинному шляхетству и соответствующий упоминавшемуся в учредительных документах идеалу «учтивого обхождения». Руководство корпуса предписывало кадетам на улицах поступать учтиво, офицеров и дам «с надлежащей покорностию салютовать»; запрещало курить и играть в карты в «каморах» [703], запрещало посещать «трактирные и кофейные домы, в коих имеются биллиард и прочие забавы […] [поскольку] в таковых местах происходят ссоры и драки прочие непотребства» [704]. Повседневное поведение регулировал специальный «Регламент поведения в классах» (который был разработан «понеже некоторые неученые кадеты о их злом нраве ежедневно многие признаки являют» и от своего «безумия» соучеников «к злому склоняют»), а также «Пункты, по которым в большом зале где кадеты обедают, поступать надлежит» [705]. По итогам посещения корпуса Миних с возмущением требовал подтянуть внешний вид кадет, которые ходят «не в убранстве», а именно «волосы имеют неубраны», одеты в «ненадлежащем мундире» и носят цветные шелковые платки вместо форменных галстуков. Кадетам, назначавшимся на дежурство к фельдмаршалу в ординарцы, велено было перед этим заниматься с танцмейстером, тренировавшим их «как к командирам придти и выйти и кумплимент отдать» [706]. Признаки конструирования шляхетского быта можно усмотреть и в организации кадетских трапез, предусматривавших правильную сервировку столов (к обеду по три тарелки, по две плоских, по одной глубокой; хрусталь; столовые приборы; уксусницы, салфетки и проч.) [707]и чтение за обедом иностранных газет (в 1739–1740 годах, например, корпус получал «амстердамские [газеты] на французском», «лейденские на немецком», «лейденские на латинском», «гамбургские почтальоны», «петербургские на немецком и российских языках» и «итальянские из Вены», причем последние были выписаны сразу же, как только начали выходить, в октябре 1739 года) [708]. Аналогичный эффект должно было иметь и вовлечение кадет в придворную жизнь – смотры в высочайшем присутствии, участие в придворных праздниках, представление ораций собственного сочинения и стихотворных поздравлений императрице от лица корпуса [709].
Обстановка в корпусе ориентировала кадет не только на определенные модели поведения, но и на соответствующие идеалу истинного шляхетства модели чувствования. Учебные пособия и изучаемые на уроках иностранного языка тексты подразумевали обязательность тех или иных эмоций, подавали кадетам правильные, соответствующие контексту образцы необходимого эмоционального настроя. Например, Иван Шатилов на экзамене переводил с немецкого на русский следующее письмо: «Высокопочтеннейший господин! Как я обрадовался (здесь и далее курсив мой. – И. Ф. ), когда от вашего благородия приятную ведомость о вашем счастливом прибытии получил, так то и вообразить не в состоянии, чтобы я мог приятнее слышать, что тот, с которым я столь приятное обхождение имел…» и т. д. [710]Аналогичное письмо переводил и Андрей Самарин: «Вашего высокоблагородия милостивое писание мне несказанную приключило радость , для того что я через оное вашей непременной склонностью обнадежен , которую также и несумнительно из того заключить могу, что ваше высокоблагородие меня в ваши деревни нынешняго лета милостиво приглашать изволили, чтоб в назначенных там веселостях имел участие» [711]. Как мы видим, здесь читается полный набор чувств, ожидаемых от благородного человека в общении с социально равными: радость, благодарность, «приятность» и т. д. В конце своего письма к пригласившему его воображаемому «ландрату» Самарин отказывается от визита – со всеми необходимыми сожалениями и извинениями и ссылкой на не менее обязательное для дворянина эмоциональное состояние, а именно чувство служебного долга: необходимость готовиться к предстоящему экзамену с приличной случаю «неусыпной прилежностью». Другие разбираемые на экзамене тексты содержат ссылки на «кратость человеческой жизни», на важность учения, на пользу красноречия, позволяющего «путь к человеческим сердцам сыскать» [712].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу