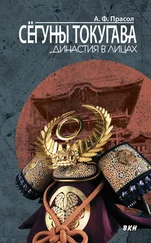В июле 1722 года шестеро извозчиков тянули по городу тяжело груженную телегу, которая на повороте зацепила и придавила ребенка. Виновных арестовали, отправили в тюрьму и стали ждать результата лечения — если ребенок умрет, всех шестерых казнят. Но ребенок выжил, и их сослали на острова. Жившего в районе Канда хозяина груза и телеги по имени Сэйдзаэмон суд приговорил к крупному штрафу. В сентябре 1728 года в том же столичном районе Канда мальчик по имени Симпати также попал под телегу и погиб. Приговор: непосредственного виновника происшествия по имени Нихэй казнить, помогавшего ему работника Сэйроку сослать на отдаленный остров.
Пользоваться большегрузными повозками разрешалось только в четырех городах: Эдо, Киото, Осака и Сумпу. По остальным дорогам двигались лишь пешеходы и всадники (первых было гораздо больше). Дорожное движение в Японии было очень интенсивным, но медленнее, чем в Европе, где широко использовались конные упряжки. По мере ускорения жизни и распространения знаний о Европе в правительстве стали подумывать о заимствованиях. Так, в конце XVIII века Мацудайра Саданобу получил от одного из чиновников бакуфу предложение рассмотреть вопрос об использовании в Эдо конных экипажей. В то время японские лошади по силе и росту уступали континентальным. Как писал наш соотечественник, “японские лошади и малы и слабы; ростом они не более наших крестьянских, только гораздо тоньше и складнее” [Головнин, 1816]. Но даже эти животные могли заметно ускорить передвижение людей, грузов и почты, и все это понимали. Однако предложение не прошло. Существовали второстепенные причины, которые в принципе можно было устранить. Улицы со временем можно было расширить, правила движения — отрегулировать, а за перемещениями потенциально опасных грузов и оружия усилить контроль. Чего нельзя было сделать, так это изменить представления о том, что положено высшим и не положено низшим. Введение карет и повозок означало бы разрешение простолюдинам ездить верхом. Простой городской извозчик в этом случае получил бы право брать в руки поводья и везти господина, то есть управлять его движением, да еще и повернувшись к нему спиной. В Европе на подобные мелочи не обращали внимания, а вот в токугавской Японии их учитывали. Простолюдинам разрешалось садиться на лошадь только в женской, сугубо пассажирской манере (ноги по одну сторону крупа), при этом ему запрещалось управлять лошадью: вести ее под уздцы должен был погонщик.

Верховая посадка для простолюдинов. Источник: NC
На фоне городских бед с колесным транспортом чрезвычайно привлекательно выглядела водная транспортировка грузов, и в прибрежных водах она использовалась очень широко — но только не в городах. Тем не менее в Японии были свои бурлаки. Они работали на 10-километровом канале Такасэ между двумя небольшими реками, выкопанном в центральной части Киото в 1614 году. Купец Суминокура Рёи (1554–1614) сообразил, что перевозить товар по воде намного дешевле, чем по суше, и с разрешения бакуфу на собственные деньги организовал строительство канала для доставки товаров в соседнюю Осаку. Канал связал побережье Японского моря с Осакским заливом, что упростило и удешевило доставку товаров. А предприимчивый купец получил право взимать за провоз пошлину и увеличил ежегодный семейный доход на 10 тысяч рё золотом в год.

Канал Такасэ сегодня
Канал был довольно узким, поэтому грузовые лодки для него строили короткими и неширокими (на них не только доставляли грузы, но и пользовались ими для прогулок). Когда дело доходило до транспортировки груза, люди вполне успешно конкурировали с тягловыми животными. Нагруженную лодку против течения мог тянуть один бык или шесть-восемь бурлаков. Ничто не мешало завести нужное число животных, кроме политических соображений. Ради поддержания общественного порядка и занятости в Киото регистрировали тягловых животных и выдавали разрешения на их использование в черте города, в том числе на канале. Причем эти нормы ужесточались, поскольку власти поощряли использование труда бурлаков. Судя по сохранившимся гравюрам, в упряжку нередко впрягалось больше людей, чем было необходимо. По мнению японских историков, это был один из первых ростков местного “капитализма с человеческим лицом”, стремящегося к минимизации негативных последствий в виде безработицы, пусть и с некоторым ущербом для производительности.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
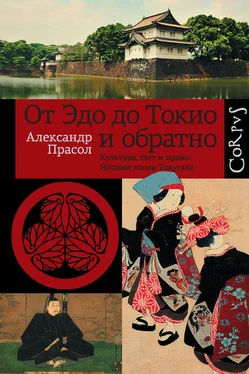






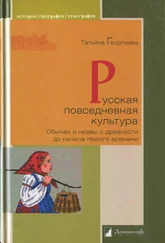


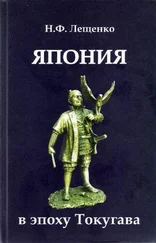
![Александр Прасол - Сёгуны Токугава. Династия в лицах [litres]](/books/431417/aleksandr-prasol-seguny-tokugava-dinastiya-v-licah-thumb.webp)