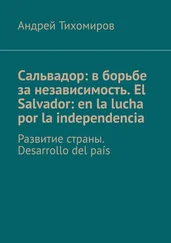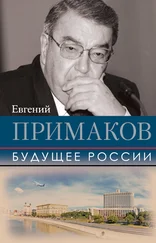«Жизнь между простыми чехами научила нас хорошо понимать, любить их и жить с ними в теплых отношениях. У вас нет денег к первому числу? – хозяйка принесет теплые пирожки, чтобы вы попробовали и сказали, хороши ли? – такое никогда не забывается; помогаете ли Вы земледельцу, а на выходных живете у него за скромные деньги, собираете ли им снопы – на всю жизнь останетесь с ним друзьями; а коль сломаете ногу – он придет почитать вам газету. Думаете, это мелочи? Однако, именно эти мелочи и являются самыми важными» [468], – писал В.С. Вилинский. Русские эмигранты испытывали глубокую благодарность по отношению к чешскому народу. Вилинский писал: «Российская акция была проявлением настоящей искренней любви. Была ли она устроена во имя славянства, христианства или гуманности – ясно одно – она была могучим жестом. Возможно, чехи нас и игнорировали, но они действительно дали русской молодежи возможность закончить образование и при этом не умереть с голоду. Это была сложная, но благородная миссия, которая лучше, чем что-либо другое, отражает прекрасные качества чешского характера… не спрашивая нас о политических предпочтениях, чешское министерство иностранных дел действительно не делало различий между эллином и иудеем, и даже в затруднительных случаях шло нам навстречу. Это было очень великодушно, и тысячи русских благодаря чехам стали полноправными людьми, а свою благодарность им и признательность распространили по всему миру – по Франции, Балканам, Америке и т. д. Должны они донести ее и до России – мне хотелось бы, чтоб этот долг был оплачен не деньгами, а огромной и вечной благодарностью и взаимной дружбой» [469].
Оценка реалий ЧСР, принадлежащая В.С. Вилинскому, представляется достаточно объективной. Хотя необходимо принимать во внимание две главных особенности этого автора. С одной стороны, ему присуще четкое и доскональное знание чешских реалий, он видел и просчеты акции помощи. С другой стороны, находясь в ЧСР в отличном от других эмигрантов положении, он недостаточно учитывал психологический аспект, а именно предоставленную «российской акцией» возможность передышки, в первую очередь моральной, и накопления сил эмигрантами.
Жизненные перспективы русской эмиграции в ЧСР, как следует из труда В.С. Вилинского, не были такими безысходными, как в романе из жизни эмигрантов Е.А. Ляцкого «Тундра». Сам Валерий Сергеевич, казалось бы, смог адаптироваться в республике Т.Г. Масарика. Будучи юристом, он дослужился до завидного поста в президиуме чехо-словацкого правительства, работал и в других высших государственных учреждениях [470].
V.4 Из России на чешский «Олимп» – Н.Ф. Мельникова-Папоушкова
Надежда Филаретовна Мельникова-Кедрова (Ривнач) (10. XI.1892 [471]-1978) относится к тому поколению русских славистов, чье становление проходило накануне и в годы Первой мировой войны. По свидетельству Мельниковой ее мать – Н.А. Ломидзе принадлежала по линии отца (Арутюна Ломидзе) к одной из ветвей знатного грузинского рода Петра Багратиона. После окончания серпуховской гимназии Мельникова училась на московских Высших женских курсах, диплом об окончании курсов выдан 20 декабря 1914 г. на имя Н. Кедровой (фамилия по первому мужу) [472]. По свидетельству Мельниковой славянские, в том числе чешский, языки она изучала у профессоров А.Н. Веселовского и B. Н. Щепкина. Бурные годы войны и революция вынудили значительную часть русской интеллигенции отправиться в эмиграцию. Н.Ф. Мельникова в 1918 г. также оказалась за рубежом (в Праге), выйдя после развода замуж за Ярослава Папоушека (после освобождения его из Бутырок) – известного деятеля Чехо-словацкого Национального Совета в России, бывшего личного секретаря Т.Г. Масарика. Изучение материалов, связанных с творчеством Н.Ф. Мельниковой на родине, приводит нас к выводу, что в ее славистической ориентации существенную роль сыграл известный русский славист, профессор Московского университета В.Н. Щепкин. С этим ученым Н. Мельникова поддерживала научные связи и состояла в переписке, получая духовную и профессиональную поддержку.
В тематическом плане в дореволюционный период деятельности Н. Мельниковой можно выделить два круга исследовательских проблем: Бакунин и славянство [473], чешская литература, прежде всего творчество видного чешского романтика и символиста Юлиуса Зейера (1841–1901), неоднократно бывавшего в России и служившего в качестве репетитора в русских аристократических семьях.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
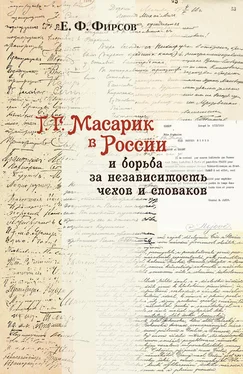
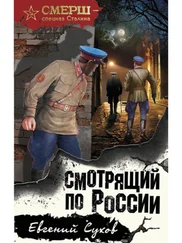

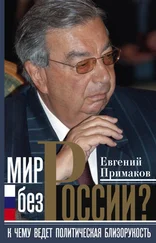


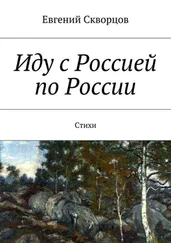

![Евгений Примаков - Будущее России [сборник]](/books/392497/evgenij-primakov-buduchee-rossii-sbornik-thumb.webp)