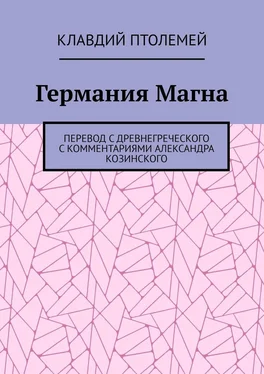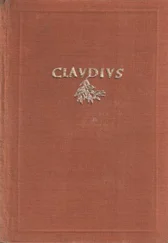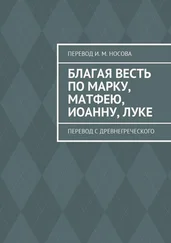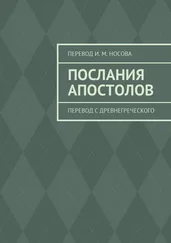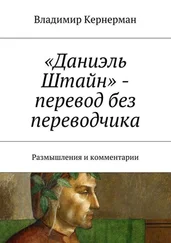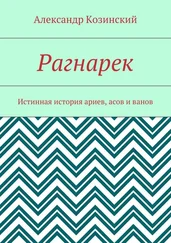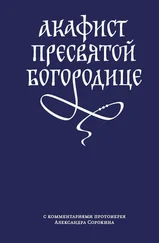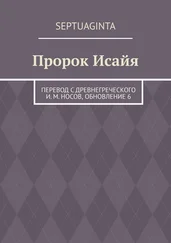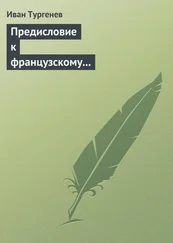Из этого я сделал вывод, что именно литовцы являлись эталонными кельтами и в древности были кочевым племенем скотоводов. Кстати, литва даже в своих лесах на Балтике славилась своей легкой конницей, обычно характерной для кочевников Востока. Почти все названия литовских племен можно истолковать как «всадники». Например, «ятвяги» – «копейщики» или «бегающие на конях» Название племени ятвягов, по-литовски jotvingiai, можно вывести от joti (ездить верхом) и vengti (бегать). Аукштайты (от слова aukštutinis) – «высокие» или «верховые». Массу литовских топонимов можно найти в лесостепной зоне Украины. Например, «Ворскла» – от vairus (красиво) и klajoti (кочевать) – «Красивое Кочевье».
Что же касается западных кельтов, то они, думаю, были потомками киммерийцев. Это была версия большого числа европейских кельтологов (Потоцкий, Раулингсон, Боннель, Карпентер). Самоназвание валлийцев «кимри», и кроме того в Западной Европе имеется много важных топонимов, происходящих от этнонимов, сходных с именем данного народа: «Камбре» (Франция), Умбрия (Италия), Нортумберленд (Англия), Хаммерланд (Дания), Гамбретта (Чехия – ныне горы Шумава). Амбронами называли себя в древности лигурийцы. Киммерийцы и литовцы-кельты, вероятно, находились между собой в напряженных отношениях: по-литовски «чемер» означает «черт».
Литва, как сказано выше, была союзником скифов. «Скифское» племя сколотов (людей с топорами-колунами) на самом деле было литовским. Возможно, они и были скифами-пахарями, занимавшимися подсечным земледелием. Литовским, полагаю, было и племя крымских тавров. Видимо, tauras (бык – по-литовски) был тотемным животным этого племени. В статьях « Крым-Таврида, тавры и славяноязычные племена Малой Азии» и «Е ще раз о том, кем были первопоселенцы Крыма-Тавриды» я подробно разобрал вопрос о таврах и их славянских потомках тавричах.
Литовскими и славянскими могли быть многие племена Западной Европы. Но для того, чтобы установить этот факт, мне нужно было самостоятельно перевести с древнегреческого языка хотя бы некоторые главы наиболее подробного географического описания Европы (и других стран) – «Руководства по географии» александрийского ученого II века нашей эры Клавдия Птолемея. Почему самостоятельно и почему именно с греческого? Потому что, как я убедился, латинские переводы Птолемея (писал он на греческом) содержали в себе важные искажения. Например, в описании Норика в греческом тексте Птолемея стоит: «Держатся у северной границы провинции, главным образом, сеоваки (Σεουακες) и алауны (Аλαυνοι). А в латинском переводе сеоваки значатся как просто Sevaces (севаки). Разница, на первый взгляд, невелика, но на самом деле имеет огромное значение. Каждый, кто немного знаком с юго-славянской лингвистикой, сразу поймет, что сеоваки это словаки. Так сербы вместо «Белград» говорят «Београд». Понял это и знаменитый германский ученый, составитель карт древнего мира Густав Дройзен. И в своей карте древнего Норика он обозначил алаунов, но не стал показывать сеоваков. Чтобы и мысли не появилось ни у кого, что словаки обитали в двух шагах от своей будущей столицы Братиставы во II веке н. э. По теории западных историков они должны были появиться на этой территории на 300 лет позже. Или вот, например, «германцы» квады, о которых писал Тацит в своей «Германии». У Птолемея они называются ковады (Κουαδοι), и говорится, что они владели железоделательными мастерскими. И всякий славянин сразу поймет, что «ковады» это кузнецы. Может быть, впоследствии они полностью германизировались, как германизировались позднее славяне-карантанцы (хорутане). Но изначально они были все же славянами, мастерами кузнечного дела.
Почему из всех территорий, на которых в древности жили венеты, я, прежде всего, перевел и прокомментировал 11 главу II книги «Руководства» Птолемея? Я исходил из того, что на территориях, завоеванных римлянами за 200—400 лет до Птолемея (Галлия и Иллирия) славянские и литовские племена уже в значительной мере романизировались. Но к северу от границ империи можно было найти чисто славянские и литовские этнонимы и топонимы.
Было еще одно важное обстоятельство. Оказалось, что координаты населенных пунктов вдали от Средиземного моря (в частности в Богемии) намного более точны, чем ближе к побережью. Ту же тенденцию я заметил и раньше, когда анализировал 5 главу III книги «Руководства» Птолемея «О положении Европейской Сарматии». Чем это можно было бы объяснить?
Я сделал предположение о том, что дошедшие до нас описания Птолемея (а в прошлом существовали и карты) имели намеренные искажения берегов Средиземного моря. Указанные карты и описания были предназначены в свободную продажу, и можно не сомневаться, что в их приобретении, пусть и за большую цену, были заинтересованы все средиземноморские пираты – греки, килликийцы, финикийцы и прочие. Время от времени римляне проводили глобальные кампании на море, истребляя кадры опытных пиратов. Но пиратство было настолько прибыльно в ту пору (сотни и тысячи торговых судов везли в Рим огромные суммы денег и других ценностей), что на место выбывших старых пиратских капитанов немедленно приходили новые молодые. И они-то особенно нуждались в картах морей. В конце концов, римское военно-морское ведомство, думаю, пошло на хитрость, разрешив пустить в свободную продажу специально сфальсифицированные карты Птолемея, а само получало от него гораздо более точные карты. И оно имело на это полное право.
Читать дальше