Во-вторых, возникла потребность, видимо, в более глубокой, нежели ранее, разработке «исторического обоснования» для сегодняшних претензий. «Исторический фундамент», возведенный в «Большой привилегии», необычно глубок и выстроен в целом весьма умело. Ее авторы отличаются неожиданно тонкой игрой с контекстами: обе «древнейшие» привилегии не выбалтывают о себе все сразу, а дают заинтересованному читателю возможность самому постепенно доходить до понимания того, в каких исторических обстоятельствах они якобы были составлены. В этом случае к умолчаниям наших грамот историку следует прислушиваться не меньше, чем к их словам: именно умолчания поставляют ценные сведения об историческом кругозоре австрийского князя и его современников. Ведь авторы фальшивки рассчитывали на то, что сознательно оставленные ими лакуны в картине прошлого читатель сможет легко восполнить из запаса собственных знаний. К примеру, если в грамоте Цезаря не говорится о его кампании по завоеванию Подунавья, то лишь для того, чтобы «целевой читатель» сам вспомнил о ней. Соответственно историку следует исходить из того, что это выдуманное военное предприятие, о котором толком не сказано ни слова, было действительно широко известно — как минимум при габсбургском и люксембургском дворах.
В том, что для легитимации амбициозных планов Рудольфа IV он сам и его помощники решили использовать образы античных императоров, не стоит еще усматривать приближение Ренессанса. Зависимость, скорее, обратная: итальянский Ренессанс был порожден тем же сдвигом в образе мыслей, который к северу от Альп выразился, помимо прочего, в изобретении «Большой привилегии». Сама же историческая легитимация «поверх религиозного пограничья» из классической Античности стала, похоже, общей тенденцией, подготовленной не в последнюю очередь долгой практикой обращения с законодательством Юстиниана, включившим немало норм «языческих императоров».
Не будем забывать, что создателями Большой привилегии числились не только античные, но и средневековые императоры и короли. За этим угадывается не просто почтение фальсификаторов к самому институту империи, которое и так очевидно. Приняв корону в римском храме св. Петра в 1355 г., Карл IV стал первым полностью легитимным императором со дня кончины Генриха VII в 1313 г. Ситуация, в которой венские фальсификаторы взялись за свои труды, должна была восприниматься ими как совершенно необычная: во главе империи стоял государь, признанный папским престолом, всеми курфюрстами и остальными князьями империи. Такого не было на памяти уже двух поколений. Власть Карла IV никем не оспаривалась, а значит, и империя как институт представала вышедшей, наконец, из долгого кризиса и находившейся на многообещавшем подъеме. Впечатляющие церемониальные акты, сопровождавшие принятие Золотой буллы 1356 г., как раз и должны были показать, что империя, обретшая, наконец, легитимного главу, сильна как никогда. В этих конкретных политических обстоятельствах представлять империю в качестве оси времен и гаранта раз и навсегда установленного порядка было куда резоннее, чем, скажем, 15–20 годами ранее — при отлученном от церкви императоре, к тому же то ли вовсе узурпировавшем свой сан, то ли получившем его весьма сомнительным, до той поры вовсе неслыханным, образом.
Помимо всего прочего, «Большая привилегия» интересна историку и тем, что она выявила региональные различия в манерах работы интеллектуалов со значимым прошлым. Поскольку ее создатели рассчитывали на успех в императорской канцелярии, то тем более подделку должны были, по их мнению, признать и при других немецких (или, шире, североевропейских) дворах, если бы она вдруг туда попала. Фальсификаторы ориентировались тем самым на привычные им способы выявления подложных документов и на свой же уровень исторической подготовки, который у знатоков канцелярского дела, по их мнению, всюду должен быть примерно одним и тем же. Как раз в этом они просчитались, приняв собственные региональные традиции за всеобщие. В Италии и на юге Франции в то же самое время римских историков уже читали, притом с нараставшим интересом. Да и не только читали. Некий Феррето де Феррети (ок. 1297–1337) из Виченцы написал историю полувека (с середины XIII в. до начала XIV в.), взяв за образец труды Тита Ливия и Саллюстия. В Вене никому еще даже в голову не пришло бы отважиться на подобное предприятие. Поэтому неудивительно, что первая «отрицательная рецензия» на творчество Рудольфа IV и его канцлера поступила именно из Италии. Впрочем, история полемики на протяжении XIV и XV вв. вокруг австрийской «Большой привилегии» — это настолько обширный сюжет, что заслуживает отдельного обсуждения. Тем более что аргументы противников и защитников «Большой привилегии» выявляют характерные особенности исторического сознания в эти два столетия едва ли хуже, чем сам ее текст.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
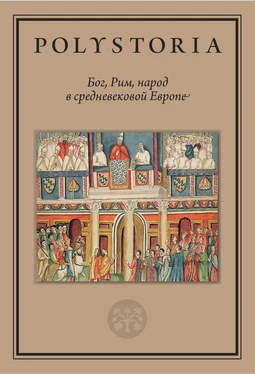






![Ольга Петерсон - Наследники Вюльфингов [предания германских народов средневековой Европы в пересказах Е. Балобановой, О. Петерсон]](/books/394392/olga-peterson-nasledniki-vyulfingov-predaniya-ger-thumb.webp)
![Ольга Петерсон - Рыцари Круглого Стола [предания романских народов средневековой Европы в пересказах Е. Балобановой и О. Петерсон]](/books/399771/olga-peterson-rycari-kruglogo-stola-predaniya-rom-thumb.webp)


