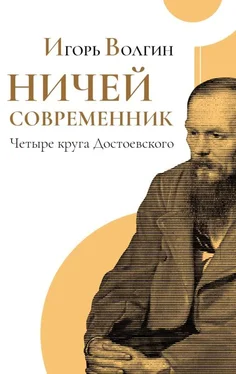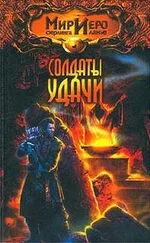Чтобы «разрешить мысль» художественного произведения, надо, естественно, постигнуть поэтику мысли.
Суждения В. Кантора основаны на внимательном прочтении романа, тщательно аргументированы и, как правило, убедительны. Вместе с тем – и это заслуга автора – он приглашает нас к соразмышлению. Было бы непростительно не воспользоваться такой возможностью.
В. Кантор последовательно останавливается на пяти жизненных позициях, явленных в романе – Фёдора Павловича, каждого из трех братьев и, наконец, Смердякова, – с тем чтобы с их помощью выяснить ещё одну, «утаённую». Эта «шестая» точка зрения, отличная от всех вышеназванных, должна, по идее, совпадать со взглядом на дело самого Достоевского.
Позволим себе в иных случаях не согласиться с Достоевским, вернее, с тем, как его иногда понимает В. Кантор.
Справедливо заметив, что «у Фёдора Павловича сладострастие доведено до высшей точки кипения», В. Кантор добавляет: «Для писателя карамазовская стихийность есть проявление в России донравствеиного, дохристианского природно-языческого начала, того, без всяких нравственных ограничителей поведения, которое, на взгляд писателя, было тесно связано с крепостным правом».
Уж не владычествует ли над Фёдором Павловичем Карамазовым некая древняя оргийная сила, не звучит ли в нём ликующий зов дионисийства («природно-языческого начала»), тем более непонятного, что, будучи «дохристианским», оно, это начало, каким-то непостижимым образом оказывается «тесно связано с крепостным правом», возникшим, насколько известно, отнюдь не в дохристианскую эру.
Старший из Карамазовых, соединивший в себе черты весёлого эллинского бога и, положим, своенравного российского помещика Троекурова, этот не лишённый пикантности персонаж весьма далёк от реального Фёдора Павловича, чьё больное, ущербное, несчастное сладострастие проистекает отнюдь не из таинственной «стихии пола» (и тем более не из каких-то «природноязыческих начал», предполагающих здоровую, полнокровную чувственность). Дионисийские игры ещё не есть разврат, а именно он, этот поздний и ядовитый цвет – не природы, но культуры (недаром «старый шут» говорит, что у него «настоящая физиономия древнего римского патриция времен упадка»), – отравляет существование родоначальника карамазовского семейства и приводит его к гибели. Его «подвиг» с бедной юродивой Лизаветой Смердящей (равно как и поступок Ставрогина с малолетней Матрёшей) вызван вовсе не «языческим» порывом страсти. Напротив, в обоих этих деяниях можно различить все признаки изощрённого нравственного садизма, преступания запретной черты, искушения и попрания духа. И неотвратимый рок по всем правилам высокой трагедии возвращает герою посеянное им зло – он принимает смерть от руки зачатого им во грехе сына.
Столь же непросто обстоит дело и с авторской (т. е. Достоевского) точкой зрения на исход уголовного процесса над Митей Карамазовым. В. Кантор формулирует эту точку зрения следующим образом: «Суд народа, считал Достоевский, – суд божий. Народ молчит, но когда его спрашивают, отвечает по высшей правде».
Что же «отвечает» народ? Согласно этому ответу («Мужички за себя постояли») Митенька Карамазов «двадцать лет рудничков понюхает» за преступление, которого он вовсе не совершал. «Судебная ошибка» (так названа та книга романа, где повествуется о процессе) искупается, по мнению критика, безупречностью нравственного чутья присяжных, ибо «приговор суда происходит по высшей правде, и эта высшая правда пробивается сквозь всё несовершенство судопроизводства».
Хороша, однако, «высшая правда», если для её торжества необходимо узаконить ложное обвинение. И потом ведь Митя готов понести наказание за свою подлинную, а не мнимую вину, его ничуть не прельщает сомнительная честь быть осуждённым полунатуральными «мужичками» [1164], которые именно «за себя» (а вовсе не за народную правду) постояли; удивительно, что В. Кантор, столь чуткий обыкновенно к внутренним голосам героев Достоевского, не уловил тут горькой авторской усмешки. Не слишком ли простодушно истолковываем мы порой народолюбие писателя, уподобляясь при этом гимназисту Коле Красоткину с его замечательной сентенцией: «Я люблю поговорить с народом и всегда рад отдать ему справедливость»? «Мужички» постояли за себя так же, как за себя постояли на суде прокурор и защитник, при всём блеске красноречия упустившие главное. Юридическая несправедливость не оборачивается какой-то особой нравственной справедливостью, и высшая правда не может быть основана на «частной» неправде (вспомним – по аналогии – «слезинку ребёнка»). Приговор Мите Карамазову – не глас народа, и тем более не глас Божий, ибо в самой форме этого суда, в его приёмах и методах заключено что-то глубоко ненародное. Само изображение судебного процесca – развёрнутая пародия на формальный, официально узаконенный способ отыскания истины (здесь можно усмотреть предвосхищение аналогичных сцен в «Воскресении» Л. Толстого).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу