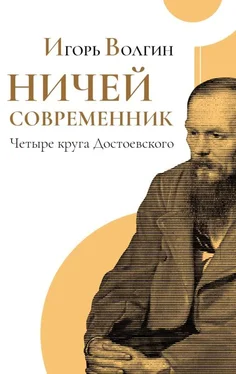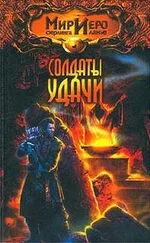Впрочем, этим авторские заслуги не ограничиваются.
Букет из мужской красоты
«Что означало на языке Достоевского, – вопрошает Сараскина, – понятие “лучшие, передовые люди”, подразумевающее его родителей? Скорее всего, для него они были людьми повышенного честолюбия, одержимыми стремлением вырваться из плена собственной заурядности».
Следует поздравить автора с этим грандиозным открытием. Мы-то по простоте душевной полагали, что лучшие люди «на языке Достоевского» – это, по-видимому, князь Мышкин, Сонечка Мармеладова, Алёша, старец Зосима… То есть люди нравственные – как правило, те, в ком теплится высокий дух христианства. Ан нет, это, оказывается, пламенные честолюбцы, одержимые жаждой «вырваться из плена собственной заурядности». Родители Достоевского, насколько можно судить, вовсе не страдали такими провинциальными комплексами и, конечно же, не считали себя людьми заурядными. В педагогических усилиях семьи трудно усмотреть «интуитивный расчёт» на воспитание гения, в чём горячо пытается убедить нас Сараскина: думается, родителей Достоевского ужаснула бы подобная перспектива.
Именно такой взгляд – «из Урюпинска» – способен различить в Авдотье Панаевой (дочери актёра, близкой приятельнице и сомышленнице «разночинцев») «светскую львицу и хозяйку литературного салона» (всё, что имеет место в столице, – разумеется, «свет»!). Это ладно. Но любопытно бы знать, откуда всё-таки взяты совершенно сенсационные сведения, будто «все видели», что автор «Бедных людей» не на шутку влюблён в ту же Панаеву? Эту сугубую тайну Достоевский поведал в интимнейшем послании к брату – и больше никто из современников (даже самые злоязычные из них!) не упоминает об этом ни единым словом.
Однако поговорим о высоком. Но прежде рекомендуем внятно и желательно вслух произнести следующий текст: «В мужском мире “Бесов”, на фоне дряхлеющего Степана Трофимовича, косматого и неуклюжего Шатова, чопорного маленького старичка Кармазинова и прочих персонажей самой заурядной наружности, Достоевскому могло быть вполне комфортно как среди себе подобных».
Давно не случалось наблюдать столь отважного проникновения в самую суть творческого процесса. Можно предположить, что при такой мизерабельной внешности еще комфортнее чувствовал бы себя Достоевский в компании Фёдора Павловича Карамазова и Павлуши Смердякова – тоже далеко не красавцев. Но зато какие душевные муки должен был претерпевать автор «Идиота», едва в «мужском мире» его романов вдруг объявлялся персонаж, чья наружность хоть немного превосходила авторскую! Как искренне, чисто по-женски сочувствует биографиня своему неудачливому герою!
«Пленительный образ, хранимый в душе» (и, очевидно, поэтому крайне редко встречающийся в текстах Достоевского) – это образ Спешнева. Он, конечно, куда пленительней других, тоже небезразличных герою фигур – например Белинского, первой жены Марии Дмитриевны, Сусловой, Шидловского, Валиханова… И, наконец, самого Христа. Все они безусловно меркнут перед тем, кто являл собой «роскошный букет из мужской красоты, чувственной энергии и демонического очарования». Овладеть этим хищным демоническим типом (то бишь «роскошным букетом из мужской красоты») и пытается романист: напомним на всякий случай, что речь идёт о Достоевском, а вовсе не об авторе «Портрета Дориана Грея».
(Жаль, что Сараскина напрочь забыла ещё об одном «физическом» прототипе Ставрогина – такая версия существует – императоре-красавце Николае Павловиче: тогда бы всем стала наконец очевидна истинная причина монархических симпатий Достоевского. Да и само участие писателя в антиправительственном заговоре можно было бы трактовать как акт тайной, вызванной ревностью эротической мести.)
Тут мы подходим к главному литературоведческому (и, не побоимся сказать, ментальному) открытию Сараскиной.
Догадывается ли читатель, ради чего автор «Бесов» создавал своего «экзистенциального антипода»? Проще простого: указанный антипод вызывал у Достоевского «любовный восторг» именно потому, что он воплощал собой «мечту о богатом, полноценном существовании». Авторскую мечту, разумеется.
Итак, Ставрогин – это не кто иной, как наконец-то «удавшийся» Достоевский! Вот где собака зарыта. Создатель Ставрогина испытывает экстаз при одном виде «бесстрашного барина». В отличие от сексуально ничтожного Достоевского (который, как брезгливо замечает Сараскина, «в своей интимной жизни поневоле играл роль не “хищную”, а “смирную”»), Ставрогин «с его победительным мужским обаянием» (букет, букет!) «мог позволить себе роскошные причуды и изысканные шалости». Очевидно, наподобие тех, что описаны в так называемой исповеди Ставрогина, где, по мнению Сараскиной, присутствуют «впечатляющие эротические сцены» (не история ли с Матрёшей призвана соответствующим образом впечатлить читателя?) и которая (исповедь), по тонкому замечанию выслушавшего её старца, способна поставить исповедующегося в положение несколько комическое.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу