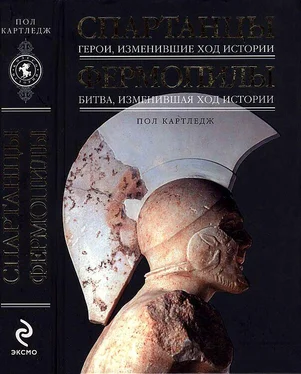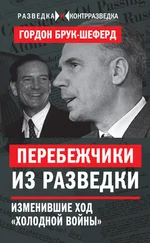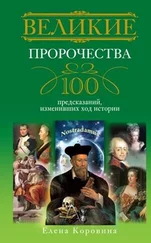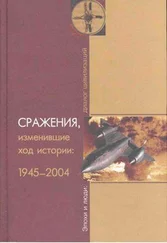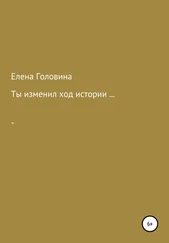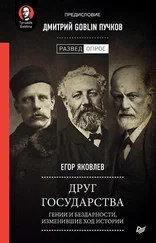Что касается общей греческой страсти к свободе, Критий, афинский политик, писавший о спартанском образе жизни в стихах и в прозе и тем самым заложивший основы литературной традиции «спартанского миража», сказал, что «в Лакедемоне проживают те, что наиболее порабощены, и те, что наиболее свободны». Под «теми, что наиболее свободны», он разумел собственно спартанцев, точнее, спартанский класс господ, которые были освобождены, не считая войны, от принудительного труда в качестве рабочей силы, от необходимости выполнять какую-либо производительную работу. Под «самыми порабощенными» он имел в виду, разумеется, илотов. Как отмечалось выше, эти люди были грекам ми, которые несмотря на свое врожденное право на свободу были коллективно порабощены и с которыми обращались с необычной жестокостью, как с покоренным, но представлявшим постоянную опасность населением.
Это жестокое обращение сначала изумило, а затем вызвало глубокую озабоченность наиболее чувствительных наблюдателей за жизнью спартанцев. Например, Платон, в целом ни в коем случае не относившийся к Спарте враждебно, заметил: «Спартанская система обращения с илотами — практически самая спорная и противоречивая тема в Греции». Эта противоречивость достигла кульминации в годы взрослой жизни Платона. Ибо вслед за решающим поражением Спарты под Левктрами в 371 г. от беотийцев под предводительством Фив большая часть илотов, жителей Мессении, наконец получила долгожданную свободу и начала жить жизнью свободных греческих граждан в возрожденном (по их мнению) свободном городе Мессены. Должен отметить, что спартанцы отнюдь не были уникальны в Древней Греции в том, что не усматривали несовместимости своей свободы с несвободным положением рабов, и в том, что их свобода основывалась на несвободе.
Эти два аспекта спартанской культуры и общества — состязательность и спорные представления о свободе — почти сами по себе делают наших спартанских предков заслуживающими постоянного культурного интереса и исторического исследования, однако ими далеко не исчерпывается крайняя занимательность Спарты. Давайте рассмотрим более или менее хорошо засвидетельствованные социальные обычаи и практики спартанцев, на которых мы останавливались в главе 4: узаконенная педерастия между молодыми взрослыми воинами и подростками в рамках обязательной государственной системы образования; атлетика, включая борьбу, практикуемая официально и якобы в обнаженном виде девушками-подростками; публичное оскорбление и унижение неженатых мужчин замужними женщинами на ежегодных религиозных праздниках; полиандрия (многомужество) и обмен женами, не влекущий общественного осуждения и легального обвинения в супружеской неверности ни для одной из сторон.
Для всего этого характерна одна особенность: необычный (фактически, по греческим и даже большинству наших недавних стандартов уникальный) статус и поведение половины спартанского населения — женщин. Сохранившиеся свидетельства достаточно многочисленны для того, чтобы недавно вышла книга о них. Это также одно из новейших исследований, готовых говорить о существовании определенного «феминизма» в Спарте. Однако, я полагаю, нам следует принимать по крайней мере некоторую часть этих, в высшей степени спорных свидетельств с долей (предположительно аттического?) скепсиса, особенно там, где очевидно идеологическое или пропагандистское намерение. Наши письменные источники имеют исключительно мужское происхождение, почти полностью не спартанское и зачастую отчетливо афиноцентристское. Но имеется достаточно надежных свидетельств, чтобы дать нам возможность сделать уверенный вывод, что Спарта серьезно отличалась от традиционных греческих норм политических и социальных отношений в таких жизненно важных областях, как брак и продолжение рода.
Это безусловно делает Спарту постоянно заслуживающей изучения не только историками, но, среди прочих, антропологами и социологами в области сравнительных культурных исследований. Геродот, отец (сравнительной) антропологии, как и истории, заявил во всеуслышание о своем согласии с фиванским лирическим поэтом Пиндаром, что «обычай был верховным владыкой». Он имел в виду, что, по его мнению, каждый народ убежден, что его собственные обычаи не только относительно совершеннее прочих, но что они лучшие из возможных. Неудивительно, что он проявлял особый интерес к обычаям, практикам и верованиям спартанцев. Вот несколько тому примеров. Все они взяты из седьмой книги его Историй , книге о Фермопилах, и все посвящены доказательству того, что спартанцы были не просто готовы, а предрасположены культурой и воспитаны, чтобы умереть за свои идеалы, то есть пожертвовать своей индивидуальной жизнью ради некой большей коллективной цели, будь то местного значения или национальной.
Читать дальше