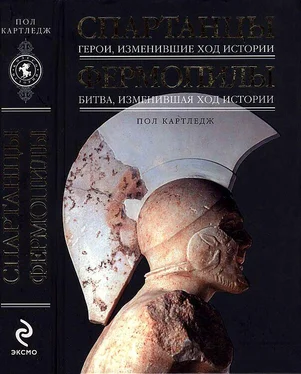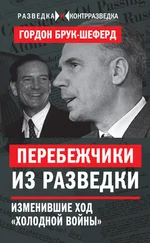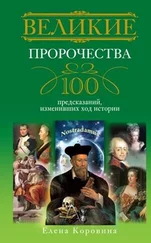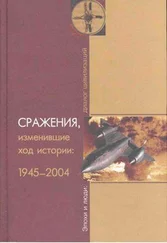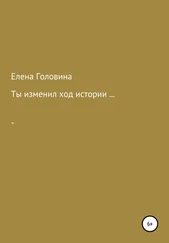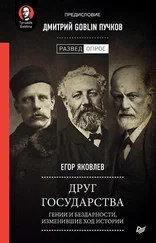Геродот определяет время Ликурга очень неопределенно — до совместного правления Леотихида и Агесилая, что приходится приблизительно на первую половину VI в. Аристотель связывает Ликурга с установлением Олимпийского перемирия и относит его ко времени, которое мы называем 776 г. до н. э. Но Тиртей, спартанский военный поэт середины VII в., совсем не упоминает Ликурга, а это очень красноречивое молчание, особенно потому, что он демонстрирует очевидное знакомство с тем, что Плутарх называл Большой Ретрой. Тиртей также упоминает решающую официальную консультацию в Дельфах, хотя в качестве посетителя выступал, конечно, не Ликург, а два совместно правящих царя — Феопомп (приведший Спарту к победе над жителями Мессении около 710 г.) и Полидор, которые могли совместно править в нашем исчислении в начале VII в. Соответствует ли действительности то, что говорит Тиртей, или нет, но это было подходящее время для проведения любых реформ того типа, которые приписываются Ликургу.
Плутарх фактически раскрывает суть реформы Герусии — спартанского Совета старейшин, осуществленной Ликургом как его первое и основное политическое нововведение, и в связи с этим цитирует Большую Ретру:
Установить культ Зевса Силлания и Афины, разделить на «трибы и обы» и учредить Герусию из тридцати членов совместно с царями [здесь они поэтически названы archagetai , т. е. «вождями»], от времени до времени собирать апеллу [праздники Аполлона] меж Бабикой и Кнакионом; Герусии предлагать законы и распускать; народу же принадлежит власть принимать «окончательное решение» [здесь Плутарх приукрашивает фразу, сильно искаженную на дорическом диалекте в оригинале], но если народ постановит дурно, Герусии царям распустить.
Самым примечательным по сравнению и контрасту с поэмой Тиртея был, прежде всего, статус царей. У Тиртея цари занимают первое и главное место, как это и можно ожидать в традиционном обществе, которое решило сохранить передающееся по наследству царствование или, скорее, двойное правление царей, переходящее по наследству. В Большой Ретре, однако, статус царей, с одной стороны, низведен до уровня простых членов Герусии, но, с другой стороны, благодаря включению в самый могущественный государственный правящий орган, состав которого, вероятно, впервые был ограничен тридцатью членами, им было гарантировано постоянное положение и влияние. В число других двадцати восьми членов, которым не могло быть менее шестидесяти лет, всегда входили нескольких родственников двух царей, и, видимо, состав фактически ограничивался аристократами, пожизненно сохранявшими свой пост и избиравшимися на мероприятии, которое Аристотель считал пародией на свободные и справедливые выборы.
Фиванский лирический поэт Пиндар отнес это событие к началу V в. (в отрывке, цитируемым Плутархом):
Советы старейших
Превосходили всех там…
На практике это означало в основном лицемерие: во-первых, Герусия обладала правом probouleusis , т. е. предварительной дискуссии, так что все законы, представленные для принятия решения спартанскому Собранию, называемому в Большой Ретре damos , т. е. Народным, сначала обсуждались в Герусии. Во-вторых, Герусия действовала как спартанский высший суд, имевший право допрашивать даже царей и выполнять функции верховного судьи, решая, что законно или незаконно. Власть Герусии была столь высока, что последний пункт Большой Ретры, очевидно, означает, что она могла даже опровергнуть решение Собрания damos , если не нравилось то, как это решение выражено или достигнуто.
Чем же был этот damos , или Собрание? В период древности Собрание состояло из взрослых мужчин-воинов, законнорожденных спартанских граждан, прошедших через обязательную систему воспитания, отобранных для трапезы за общим солдатским столом, экономически состоятельных, чтобы оплатить свой минимальный взнос за продукты для совместной еды, и не обвиняемых в трусости, порочащем общественном преступлении или скверном поведении. В высшей степени маловероятно, что такое воинское Собрание могло бы существовать или иметь возможность получить даже ограниченные права и привелегии по условиям Большой Ретры, прежде чем Спарта изобрела успешную фалангу тяжеловооруженных пехотинцев. А это могло произойти не раньше 675 г. или еще позднее, если мы учтем поражение Спарты от Аргоса при Гисиях в пограничной области Фиреатиде, традиционно датируемое 669 г. до н. э., за которым последовало крупное восстание недавно завоеванных жителей Мессении. Дата во второй четверти седьмого века, кажется, таким образом, наиболее правдоподобной для этого нововведения, и, возможно, в другом отрывке из иноземной поэзии, цитируемой Плутархом в Ликурге, особо упоминается успешное завершение политической реформы, соединенное с военным успехом гоплитов:
Читать дальше