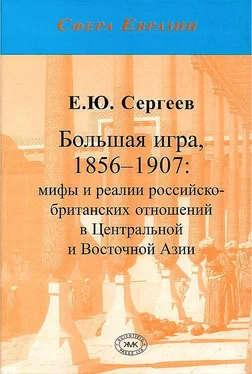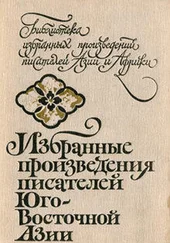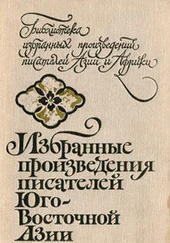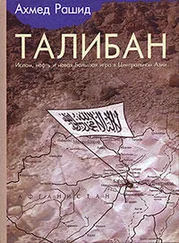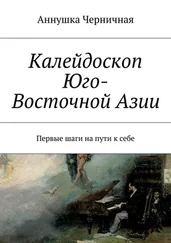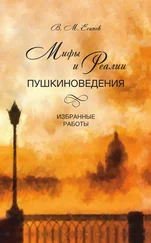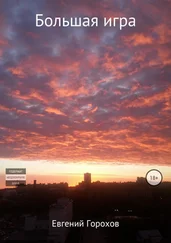Изучение материалов Комитета имперской обороны вместе с британской дипломатической корреспонденцией позволяет выявить цели, которые преследовал Уайтхолл, продлевая союз с Японией на фоне Большой Игры: во-первых, ограничить аппетиты сторонников агрессивной внешней политики в России, включая их планы похода на Индию; во-вторых, предотвратить возможность сколачивания континентального блока европейских держав против Англии; в-третьих, осуществлять контроль за адептами паназиатской доктрины в Японии и странах Дальнего Востока. Не стоит сбрасывать со счетов также экономические и военные аспекты союза, ведь лондонский Кабинет получал возможность экономить значительные средства на дислокацию многочисленной эскадры в Тихом океане, поскольку теперь функция сдерживания там России, Германии и Франции переходила к Японии. Характерно, что в декабре 1905 г. Адмиралтейство направило меморандум в Кабинет с настоятельной рекомендацией унифицировать сигнальные и телеграфные коды, используемые флотами Англии и Японии. Кроме того, морские эксперты предлагали интенсифицировать обмен разведданными и взаимное снабжение различными военными материалами в экстренных случаях согласно секретному приложению к тексту договора [1133].
Дальневосточный кризис, апогеем которого стала русско-японская война, самым непосредственным образом повлиял на ход Большой Игры. Прежде всего, как верно указывает современный японский историк, война изменила восприятие локальных конфликтов в контексте международных отношений: если раньше ситуация в Европе определяла расстановку сил в других регионах планеты, то теперь события в Азии или Африке вносили коррективы в группировку держав Старого Света [1134]. Далее, отметим волну антиевропейских настроений у азиатских народов, получившую дополнительный импульс в связи с победой «желтой» Японии над «белой» Россией. Сошлемся на компетентное мнение Дж. Кларка, секретаря Комитета имперской обороны, который писал в 1908 г., что «поражение России поставило вопрос о праве и возможности Европы управлять остальным миром, и, таким парадоксальным образом, сделало больше для ослабления Британской империи, чем все шумные угрозы (русского. — Е.С .) вторжения в Афганистан» [1135]. Для него и таких политиков, как Керзон, или общественных деятелей, как Чайрол, вступление Японии в «клуб» великих держав укрепило надежды индийских националистов опереться на Страну восходящего солнца в борьбе за независимость [1136].
Таким образом, как это ни странно, но падение престижа России в Азии означало не только удар по амбициям «царизма», но и по всей концепции лидерства Европы в модернизации азиатских народов! Кроме того, судя по официальной переписке и мемуарам, многие политики и военные на Британских островах и в Индии всерьез опасались стремления Петербурга отомстить Лондону за поддержку Японии, прикрытую формальным соблюдением нейтралитета. Так, например, генерал Китченер указывал на активное железнодорожное строительство в Русском Туркестане как на признак подготовки транспортной инфраструктуры к будущей войне. И основания для таких опасений действительно существовали, поскольку Николай II одобрил сооружение ответвлений от основной магистрали, пересекающей Центральную Азию от берегов Каспия до отрогов Алайского хребта на границе с Кашгарией. Эти боковые ветки имели стратегическое значение, так как подходили к границе с Афганистаном в районе Кушки и Термеза. Завершающим аккордом создания этой сети стало строительство Оренбург — Ташкентской железной дороги, которая соединила Среднеазиатскую магистраль с Транссибирской. Не стоит также забывать и о водных путях сообщения, например, Аральском море, Амударье и Сырдарье, которые контролировались русскими речными судами [1137].
В процессе развертывания вооруженного противостояния между Россией и Японией разведывательные службы Британии пересматривали оценки потенциала Туркестанского военного округа, усилившегося благодаря, как отмечалось в аналитических записках, совершенствованию логистической инфраструктуры, которая обеспечивала транспортировку сил и средств из других областей империи к ее границам с Персией, Афганистаном и Китаем [1138].
Неслучайно поэтому Комитет имперской обороны в 1904–1905 гг. обсуждал три сценария войны против России — «А» — для Европы, «В» — для Центральной Азии и «С» — для Кавказа и всего Черноморского бассейна. Как видим, усилиями японского союзника дальневосточный регион уже не рассматривался стратегами Комитета в качестве угрожающего направления возможной русской экспансии. Зато предложение генерала Китченера о нанесении превентивного удара по Русскому Туркестану путем захвата Герата, оккупации Сеистана и последующего вторжения в Закаспийскую область привлекло внимание членов Комитета. Для оценки реализуемости такой схемы военные эксперты должны были сопоставить численность русского контингента в Туркестане, которая равнялась 42 тыс. регулярных войск и 30 тыс. иррегулярной кавалерии эмира Бухары, с количеством англо-индийских войск, составлявшим 75 тыс. британцев и более 155 тыс. туземных солдат. Вместе со вспомогательными силами небольших азиатских государств, правители которых являлись союзниками англичан, общая численность вооруженных сил, противостоявших российским войскам, к 1905 г. превышала 330 тыс. человек. Вот почему рассуждения о казаках, совершающих марш на Индию через территорию Афганистана, все тот же Дж. Кларк назвал «чистой воды бредом» [1139].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу