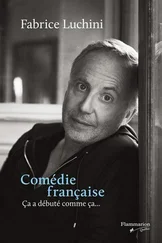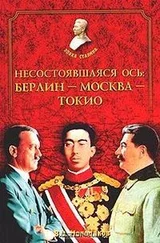Агатон затронул другой важный аспект, на котором позже сосредоточился Доде, – о немецком происхождении методологии «применения карточек, нумерации и подсчетов к творениям духа» и «подмены суждений колонкой цифр» [110] Léon Daudet. Contre l'esprit allemand de Kant à Krupp. Paris, 1915. P. 29–30.
.
За первой статьей, вызвавшей бурю возмущения в Сорбонне и в либеральных кругах, последовал прицельный огонь по влиятельнейшим и наиболее признанным фигурам тогдашнего высшего образования и науки.
Филологу Гюставу Лансону – Массис одно время занимался у него – досталось за то, что тот свел изучение и обучение истории французской литературы к мелочам фактографии и библиографии, к сопоставлению вариантов и поиску источников вместо понимания ее мыслей и красоты стиля. Слушавший его лекции Рене Бенджамен – «прирожденный наблюдатель, умеющий видеть и слышать, наделенный вдохновением и иронией» (LDE, 205), по определению Доде, – саркастически вспоминал, как Лансон, создатель «лаборатории слова», «целыми часами диктовал библиографию, дабы удобрить наши мозги» [111] René Benjamin. La farce de la Sorbonne. Paris, 1921. P. 12.
.
Историк Шарль Сеньобос – обличитель «стиля», «литературы» и «общих идей» в исторических исследованиях, апологет деталей и точности – был показан как автор поверхностных и скучных работ общего характера, не способный на обобщения.
Лингвист Фердинанд Брюно, выступавший против обязательного преподавания латыни как бесполезной для изучения и понимания французского языка, предстал под пером Агатона не только профессионально несостоятельным, но и политически ангажированным антиклерикалом.
Официальный историограф Французской революции Альфонс Олар подвергся уничтожающей критике не только за политический оппортунизм, обеспечивший ему успешную карьеру, но и за низкое качество подготовки многотомных собраний документов под его редакцией, выпущенных за казенные средства. Важные дополнения к его портрету находим у публициста Юбера Буржена: «Это хорошенькая монополия на архивы и публикации. Это отличное коммерческое предприятие. У него есть видные стороны: реклама, пропаганда, влияние, производство, материальные и политические выгоды. Но есть и невидные: рекомендации, стипендии, назначения, раздача постов и наград. Олар – всемогущий патрон, который делит с Лависсом и Сеньобосом право распределять университетские блага» [112] Цит. по: Bertrand de Jouvenel. Après la defaite. Paris, 1941. P. 53.
.
Игнорируя критику, нотабли оставались верны себе. За критикой Агатона последовал памфлет остроумца Бенджамена «Фарс Сорбонны» (1921). «Наши друзья, наши союзники, народы, которые восхищаются нами, имеют самое высокое и чистое представление о Сорбонне! – иронически перефразировал автор слова апологетов. – Они произносят имена Олара и Сеньобоса с тем же пиететом, с каким говорят о старом бургундском» [113] Benjamin R. La farce de la Sorbonne. P. 27.
. Бенджамен изобразил Олара жонглирующим словами «светский» и «республиканский» и обличающим Наполеона как врага революции, недостойного похвал. Сеньобос, «еще более ученый, чем Олар», предстал под его пером отрицателем какого бы то ни было единства в «том, что обычно называют Францией», – единства языкового, культурного, этнического или религиозного. Место Лансона занял его ученик Гюстав Мишо, «фанатик карточек», навевающий лекциями об искрометном Мольере лишь уныние и скуку.
Памфлет, как ранее статьи Агатона, вызвал острую реакцию либералов, усмотревших в нем покушение реакции на университет как «последний оплот критического духа и свободы суждений» [114] Benjamin R. La farce de la Sorbonne. P. 87.
. «Это королевство напыщенных педантов уже не исправить», – ответил Бенджамен. «Советую французским студентам никогда не заглядывать в аудитории факультета словесности. <���…> Вы полны доверия и надежд. Олар убедит вас в тщете любого исследования, Сеньобос – в непознаваемости прошлого. <���…> Вы открываете душу. “Где ваши карточки?” – спросит Лансон» [115] Ibid. P. 149–151.
.
Оппонентам пришлось принять во внимание, что Агатон говорил не только от своего имени, но ссылался на мнения опрошенных им парижских студентов и лицеистов. Он заставлял если не считаться с ними, то хотя бы выслушать. Внимательно следивший за прессой, Моррас сразу обратил внимание на нового автора, тем более что сам в молодости использовал тот же псевдоним.
Годом позже статьи вышли отдельной книгой под названием «Дух новой Сорбонны». Секрет псевдонима тщательно сохранялся. Только посвященные знали, что за ним скрываются Массис и психолог Альфред де Тард, сын известного социолога Габриэля Тарда. В книге «Припоминания. 1905–1911» (1931) Массис подробно рассказал историю книги и реакции на нее.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
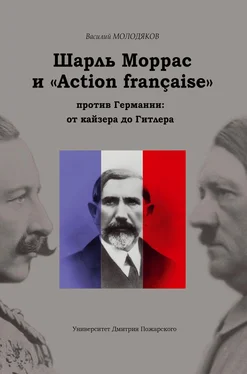

![Константин Бальмонт - Константин Бальмонт и поэзия французского языка/Konstantin Balmont et la poésie de langue française [билингва ru-fr]](/books/60875/konstantin-balmont-konstantin-balmont-i-poeziya-francuzskogo-yazyka-konstantin-balmont-et-thumb.webp)