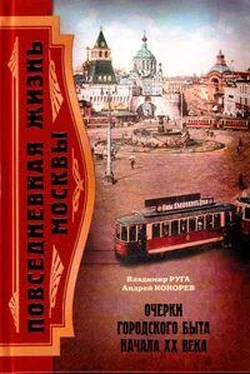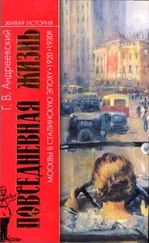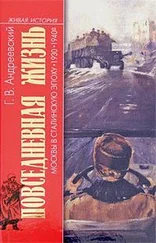С наступлением самого праздника хлопот не убавлялось. Это хорошо видно из описания, оставленного Н. А. Варенцовым:
«Праздничный день начинался церковными службами, ходили к заутрене и ранней обедне. По возвращении из церкви дети награждались подарками, а также вся прислуга. С черного хода приходили с поздравлением дворники, кучера, трубочисты, почтальоны, ночные сторожа и тому подобные лица, имеющие какое-либо отношение к хозяевам, наделявшиеся некоторыми суммами.
Визиты родственников и знакомых начинались рано, чуть ли не с 9 часов; одни уезжали, другие приезжали, приходили приходские священники с крестом, пели тропари празднику, кропили святой водой всех подходящих приложиться ко кресту, попозднее приезжали знакомые монахи из монастырей, и весь день проходил в сутолоке и суете, надоедливой и малоинтересной. Всех приезжающих приглашали в столовую, где на длинном столе стояли разные закуски, вина, с разными затейливыми и вкусными блюдами» [190].
Газеты писали, что в числе визитеров «с черного хода» в квартиры добропорядочных обывателей вдруг заваливались совершенно незнакомые молодые люди, напоминавшие с виду «недостаточных студентов». «Мученики науки», поздравив опешивших хозяев с Рождеством, нагло требовали, чтобы и их одаривали рублем-другим.
Главным испытанием на Рождество для москвича из общества были визиты. В начале книги мы упоминали о новогодних визитах, но по своему характеру они не шли ни в какое сравнение с рождественскими. На этот раз требовалось не только объехать множество домов, но и в каждом не обидеть хозяев отказом от угощения. О тяжелой доле визитера говорилось в стихотворении, опубликованном в газете «Новости дня»:
Праздник – это облаченье В новомодный фрак, Непонятное волненье, У дверей рысак. Чрезвычайная отвага, Напряженный ум, Водка, эль, коньяк, малага, Редерер и мумм... [191]В каждом доме радость встречи, Вилок, рюмок стук, Поздравительные речи, Целованье рук... Чувств «горячих» охлажденье, Помутневший взор, В пьяном виде возвращенье Ночью... [192]
В прозе признания визитера выглядели не менее трагически: «По рюмочке, да по две, а где так и стаканчик красненького или беленького, да коньячок без счету на придачу, – к вечерку-то образовались градусы высокие. От шести различных поросят отведал, половину заливных да половину жареных, ветчин, икр сколько! Словом, приехал домой больной, да и посейчас в себя не могу прийти. Как взгляну на поросячью физиономию, так дрожь меня и берет. Не будь он скотина бесчувственная, да к тому же заливная, – так бы, кажется, и съездил ему по разукрашенной физии».

В упомянутой ранее рекламе «шустовского» коньяка как– то была обыграна типичная ситуация, связанная с визитами:
– Иван Иванович, пожалуйте в столовую...
– Не могу-с, Марья Петровна, честное слово-с.
– Вздор! Рюмка шустовского коньяка и кусочек ветчины вам вреда не принесут. Скушайте, пожалуйста... ну, для меня... выпейте за мое здоровье!
– Вам хорошо, Марья Петровна, говорить-с, но ведь я уже слышал это в сорока шести домах, и во мне уже сидят два окорока ветчины и четвертная [193]шустовского коньяку! Пощадите!
С Рождества начинались Святки. По старой русской традиции, которой москвичи еще вполне придерживались в начале XX века, в это время по домам ездили ряженые. Как правило, это были знакомые хозяина дома, заранее втайне от всех договорившиеся с ним о предстоящем «нашествии».
Ряженые приезжали со своим тапером – наемным музыкантом, игравшим на фортепьяно музыку для танцев. Стоили его услуги сравнительно недорого – три рубля за вечер.
От веселья, затеянного ряжеными, как говорится, дым стоял коромыслом. Зачастую к этому домашнему маскараду присоединялись все обитатели дома, наскоро облачившись в вывернутые шубы и бабушкины наряды, извлеченные из сундуков.
Многие из купцов свято блюли свою корпоративную традицию – с размахом погулять во время Святок. Естественно, к ним присоединились и москвичи разных других званий и профессий. Знаток московского быта А. М. Пазухин не мог не оставить точной зарисовки такой гульбы:
«Вот, например, мчится за город лихая тройка с группою таких веселящихся молодых и немолодых людей. Тройка действительно чудная, „унеси ты мое горе“ тройка, что называется, но, унося компанию за город, горя эта тройка не уносит. Сидит компания, достаточно „зарядившая“ себя для веселья, и только один из этой компании, средних лет купец из Таганки, „веселится“, ухая на лошадей, зазывая всякими способами встречных и обгоняемых и возбуждая сильное негодование городовых. [... ]
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу