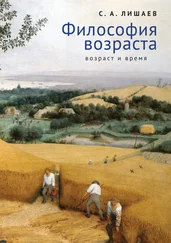Кутепов попрощался, а я уходить не собираюсь, вот что значит вольный. И говорю ему: „А как это я домой пойду, денег у меня нет, дайте, говорю, мне 15 копеек на трамвай“. Тогда трамвай стоил 15 копеек. Эти мужи не нашли в себе смелости дать мне 15 копеек из своего кармана и отвели меня снова в камеру и опять заперли. Как я себя корил! Я не знаю, сколько я там просидел, у нас ведь не было часов. Наконец меня вывели, посадили в пикап, ворота одни за другими открылись, и я выехал на свободу.
Но тут я растерялся, не знал, куда ехать. Мы жили с Елизаветой Михайловной в огромной коммунальной квартире на Сретенке, напротив кинотеатра „Уран“, в размашистых помещениях бывшего дома страхового общества „Россия“. До моего ареста у нас там было две комнаты — большая, 24 кв. м. и маленькая, 8 кв. м. Когда меня арестовали, маленькую комнату опечатали (сколько в Москве было опечатанных комнат в коммуналках!), а Лиза осталась жить в большой комнате. Кроме нас, в квартире еще пять семей. Что там начнется, если я туда поеду! И я поехал в Петровский парк, в дом профессора Шишмарева, отца Лизы. А мы ведь были не зарегистрированы, хотя дети были записаны на мою фамилию. Родители Лизы были дома. Начались „охи“ и „ахи“, тут же позвонили Лизе. Она схватила обоих мальчишек и через полчаса была уже здесь. Младший меня не знал совершенно. Ему было пять месяцев, когда меня арестовали.
Через два дня я был уже на своем рабочем месте вольным инженером. Я волновался, как меня встретят мои товарищи. Выходит, я чист, а они нет, нелепая ситуация. Я пришел, ничего не изменилось по отношению ко мне. Более того, как только я вернулся, три человека, Сергей Михайлович Егер, Сергей Павлович Королев и …третьего, вот, забыл, обратились ко мне с просьбой разыскать их жен в Москве и все им рассказать. Ведь наши жены думали, что мы сидим в Бутырках, это те счастливые жены, у которых принимали передачи.
Однажды, много лет спустя, не помню уже, по какому случаю, мы с Егером приехали к Сергею Павловичу на его дачу за зеленым забором. Там сейчас музей. Мы сидели в этом двухэтажном добротном доме и пили, как полагается, коньяк. Была зима и поздняя ночь. И тут Сергей Павлович вдруг говорит: „А вот, ребята, я иногда думаю, сейчас откроется дверь, войдут вертухаи и скажут: а ну, собирайся с вещами! — может это быть или не может?“ И мы пришли все трое к выводу, что может. Это были 50-е годы. Берии уже не было, а был еще страх. И наше инженерное восприятие мира видело синусоиду, чистую классическую синусоиду — так и мыслилось, что еще все это может быть . Теперь это, наверное, невозможно. Теперь нам кажется, что мы все понимаем, и, скажем, относительно Берии все кажется однозначным. А тогда, когда он приходил к нам в ЦКБ-29, предупредительный и внимательный, мы видели лишь его инженерную неграмотность, но это нормально. В том, что мы все шпионы, его могли и убедить, откуда нам тогда было знать. Более того, ведь многие с ним связывали даже надежды на справедливость. Были даже попытки со стороны арестантов „открыть глаза“ Лаврентию Павловичу. Все-таки мы верили, что рано или поздно во всем разберутся».
Юрий Борисович рассказывал, что Берия время от времени устраивал приемы в честь арестантов. Столики на шестом этаже сдвигались в банкетный стол в виде буквы «П», и Берия, стоя в барственной позе у дверей в столовую, приветствовал гостей.
«Стол накрывался необычайный, — рассказывал Юрий Борисович, — с икрой, с балыками, с фруктами. Когда гости были в полном сборе, Берия становился во главе стола и начинал говорить. Говорил он обычно почти что ласковым голосом, вроде того, что, мол, „вот, я хочу посоветоваться с вами, как мы будем работать дальше, не нужны ли новые кадры, и если нужны, то какого именно профиля, с этим проблемы не будет. Давайте, забудем сегодня неприятности и будем веселиться. Сегодня вы мои гости и чувствуйте себя легко и свободно“. И вот, однажды после доверительной речи Берии вдруг подходит к нему Бартини. Я опешил. Бартини был моим другом и, кроме меня, общался еще только с двумя-тремя арестантами, и все. Очень был замкнутый. Он подошел к Берии, вскинул красивую, гордую голову и сказал: „Лаврентий Павлович, я давно хотел сказать вам, что я ни в чем не виноват, меня зря посадили“. Он говорил только за себя, у нас было не принято говорить от имени групп. Как изменилось лицо Берии! Благодушное выражение хозяина сменилось на хищно-торжествующее. Он подошел к Бартини мягкими шагами и сказал: „Сеньор Бартини, ну конечно, вы ни в чем не виноваты. Если бы были виноваты, давно бы расстреляли. А посадили не зря. Самолет в воздух, и вы на волю, самолет в воздух, и вы на волю!“ И он показал рукой, как летит самолет в воздухе, и даже приподнялся на цыпочки, чтобы самолет летал повыше. Нам это тогда казалось смешным, и мы хохотали здоровым арестантским смехом. А на второй день даже Махоткин молчал за столом».
Читать дальше
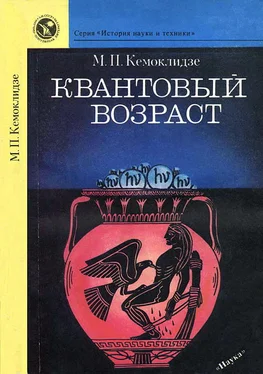





![Дерек Кюнскен - Квантовый волшебник [litres]](/books/392099/derek-kyunsken-kvantovyj-volshebnik-litres-thumb.webp)
![Герберт Кемоклидзе - Рыцари и львы [Рассказы и сказка]](/books/398461/gerbert-kemoklidze-rycari-i-lvy-rasskazy-i-skazk-thumb.webp)