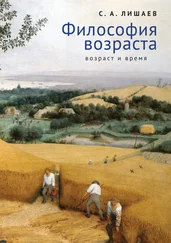«Милая моя Таня! Твое внимание ко мне бесконечно трогает меня, и я очень ценю его. Психологически мне очень трудно заставить себя сесть писать письмо, не знаю даже толком почему. Основное, что определяет пульс моей жизни, это глубочайшее убеждение в том, что я сделал крупнейшее научное открытие и полностью оправдал надежды, которые на меня возлагали в молодости… Все, что в моих силах, я делаю и хочу верить, что доживу до признания…
В силу обстоятельств мы живем одиноко, без людей, всецело предоставленные самим себе. Преподавание в Учительском институте обеспечивает мне жизнь. Чувствую я в себе бесконечно много сил во всех отношениях; страшно подумать, сколько аспирантов я мог бы сейчас обеспечить работой. Единственные два преподавателя математики здесь уже послали под моим руководством три работы, из которых две вышли, а третья в печати.
Вот, все о себе…».
Адресат этого письма, Таня Мартынова, была близким другом Юрия Борисовича. Он познакомился с родителями Тани после возвращения из Германии в 1932 г. С семьей Мартыновых у Юрия Борисовича завязалась тесная дружба. Таня была тогда подростком. Когда Юрия Борисовича арестовали, она была студенткой геологического факультета Московского университета. Первое же университетское собрание после майских праздников 1938 г. было посвящено Румеру, случилось так, что только ему одному. Обычно собрания коллектива, осуждавшие бывшего своего сотрудника, ныне врага народа, чтобы не проводить их слишком часто, устраивались после того, как собиралась солидная группа «вредителей». Собрания проходили довольно быстро — осуждавшие осуждали, остальные молчали. Выступающая публика, как правило, была единодушна.
Собрание, осуждавшее Румера, не особенно отличалось от других таких собраний: осуждавшие осуждали, остальные молчали. В конце собрания худенькая студентка попросила слова. Ей дали слово спокойно и равнодушно. Это была Таня Мартынова. «Товарищи, — сказала Таня, — я клянусь вам, все, что здесь говорили про Юрия Борисовича Румера, неправда! Давайте подумаем сейчас вместе, давайте подумаем, что происходит…». Она говорила тихо, казалось, шепотом, от этого зал напрягся еще сильнее. Она говорила так, что ее не посмели прервать, и только когда она расплакалась, испугавшись этой жуткой тишины и скованных ужасом лиц, собрание поспешно закрыли. После этого собрания от Тани отвернулись все ее друзья по университету. Одни ждали ее ареста, другие, по-видимому, считали ее провокатором. Таню, слава богу, не тронули.
Возвращаясь к письму, адресованному Тане Мартыновой, отметим одну очень важную черту Юрия Борисовича, отраженную в этом письме, — это постоянное стремление найти учеников. При знакомстве с молодыми людьми он подсознательно прощупывал их как потенциальных своих преемников. Приутихшее было после ареста, это чувство быстро появилось вновь, уже в Тушине. Однажды под вечер, когда почти все уже были в спальне и каждый занимался, чем хотел, привели совсем молодого человека и показали ему приготовленное для него место. В одной руке молодой человек держал книжку Понтрягина, в другой — тощий сидор, из которого достал хлеб и, держа его на полупротянутой руке, стал всех оглядывать. До конца это зрелище мог понять только тот, кто вернулся в «шарашку» из лагерей. Румер не был в лагере, но сердце его сжалось, он первым подошел к юноше. Тут же выяснилось, что Юрий Борисович косвенно уже участвовал в его судьбе. Молодого человека звали Колей Желтухиным.
«Меня арестовали в 37-м году, — рассказывал Николай Алексеевич Желтухин, — очень долго продолжалось следствие, суд и после ожидание ответа на кассационную жалобу. В 39-м году жалоба была отклонена и меня направили в лагерь в Котлас, не в сам Котлас, а на сплав по реке Сухоне и по ее притокам. Территория, на которой мы работали, была огорожена. Наша работа состояла в том, что по проходам мы подгоняли баграми лес к машине, которая связывала этот лес в пучки. Жили мы на барже, на реке. Берег огорожен, а кругом вода, стылая. Я понял тогда, что человек может вынести гораздо больше, чем может представить его разум. Я подал там заявку на некоторое изобретение, связанное с зажиганием двигателя, главным образом авиационного, но можно и автомобильного. Эта моя заявка по тюремной администрации пошла в Москву, и там она была направлена Стечкину. Они посмотрели эти каракули, буквально каракули, потому что все было написано на листочках школьной тетради, а вместо чертежей рисуночки от руки. Понять эти каракули было трудно. Профессионал их писал или непрофессионал, но видно было, что человек в этой области что-то знает. И дали такое обтекаемое заключение, довольно рискованное по тем временам, что тюремное начальство вызвало меня в Москву. Заключение было подписано профессором Стечкиным и профессором Румером. Когда я приехал в Москву, то сразу вызвал подозрение начальства, слишком молодым был, мне было 23 года. Но меня все-таки отправили в Тушино. Здесь быстро разобрались, что я непрофессионал, но я был матерый чертежник. Студентом я подрабатывал на заводе в КБ, и у меня был твердый чертежный почерк. Меня оставили в Тушине и поставили на общий вид одного из двигателей. В Тушине делали два типа двигателей. Один разрабатывал Добротворский, специалист по карбюраторам, второй — Чаромский, известный конструктор, у которого работали Стечкин и Румер. Все они прибыли сюда из Болшева. Болшевский период кончился до моего прибытия. Когда я приехал, то было полно разговоров про Болшево. Как я понял, Болшево был некий промежуточный этап, где просто всех собирали, а приняв решение, кто что делает, распределяли по конкретным большим заводам и КБ. И началась большая работа .
Читать дальше
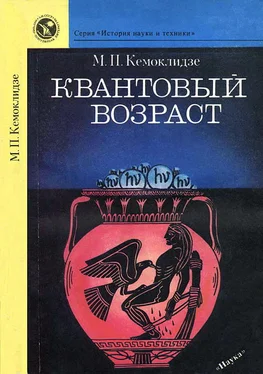





![Дерек Кюнскен - Квантовый волшебник [litres]](/books/392099/derek-kyunsken-kvantovyj-volshebnik-litres-thumb.webp)
![Герберт Кемоклидзе - Рыцари и львы [Рассказы и сказка]](/books/398461/gerbert-kemoklidze-rycari-i-lvy-rasskazy-i-skazk-thumb.webp)