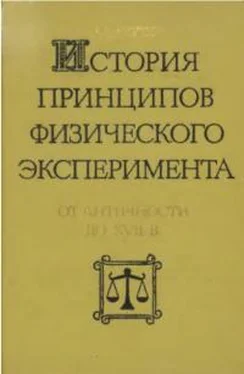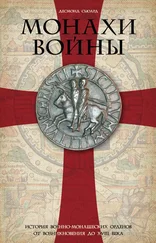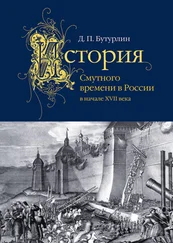20 См.: W . Е. Wohlwill. Op . cit ., Bd 1, S . 441. См .: W. E. WohlwilL Op. cit., Bd 1, S. 449—451.
21 Там же .
22 Цит . no: W. Е . WohlwilL Op. cit., Bd 1, S. 476.
23 Шайнер писал Вельзеру осенью 1612 г.: «Я только это получил письмо с наблюдениями Галилея. Я невероятно обрадовался, когда увидел, до какой степени они совпадают с моими, а мои — с его. Сравнив, ты увидишь, и если заметишь, то удивишься, насколько хорошо, учитывая большую удаленность мест наблюдения, согласуются наши результаты друг с другом в том, что касается числа, порядка, положения, величины и фигуры пятен... При всем различии во мнениях мы могли бы быть тесно связанными душевной дружбой, тем более, что мы оба стремимся к одной цели, а именно к истине». Цит. по: W . Е. Wohlwill. Op . cit ., Bd 1, S . 476.
24 Цит. по кн.: С. Ф. Васильев. Из истории научных мировоззрений . М .— Л ., 1939, с . 59.
25 Е . Burtt. The metaphysical foundation of modern physical science. N. Y ., 1925.
26 «...Для патера Шайнера, который привык мыслить «согласно общему мнению всех философов и математиков», удовлетворительное объяснение рассматриваемого явления получается путем включения его в господствующую систему мира... Здесь противостоят друг другу два типа научного мышления: приспособление новых фактов к уже готовым воззрениям и вывод новых воззрений из этих фактов, не покидая, однако, почвы их». Л. Олъшки. Цит. соч., т. III, с. 163.
27 См.: Т. Kuhn . The copernican revolution. Planetary astronomy of the development of Western thought. Cambridge , 1957.
28 Цит. по статье: H . И. Идельсон. Этюды по истории планетных теорий.— В кн.: Николай Коперник. М.— Л., 1947, с. 123.
29 Там же, с. 245.
30 Там же.
31 В смысле Декарта. См., например, понятие «интуиции» в III правиле из «Правил для руководства ума». Р. Декарт. Избранные произведения. М., 1950, с. 86.
32 См.: П. Дюгем. Физическая теория, ее цель и строение. СПб., 1910, в особенности с. 318—319. Конвенциализм, безусловно, является шагом вперед по сравнению с наивным индуктивизмом и верификаторством. Однако и он оставляет в значительной степени непроанализированным то, каким образом вообще возможен контакт между математической теорией — гипотезой и простым наблюдением. Хотя в конвенционализме уясняется роль теоретической идеализации в эксперименте (см., например, цит. соч., с. 182—189), однако разделение физико-теоретической системы на три разнородных слоя: логический (математический), эмпирический и метафизический — составляет его неискоренимый недостаток, какую бы органическую форму сосуществования этих трех родов знания он ни избрал.
33 Там же, с. 48— 65. См. критику этой «конвенциалистской парадигмы» у Лакатоса: /. Lakatos. History of science and its rational reconstructions.— In: Boston studies in the philosophy of science, ed. by R. C. Buck and R. S. Cohen, vol. VIII , Boston , 1970, p . 94—96.
34 Так считает Э. Панофский. См. статью «Галилей; наука и искусство (эстетические взгляды и научная мысль)» в кн,: У истоков классической науки. М., 1968, с. 13—34. Свидетельством в пользу такого мнения является, без сомнения, отношение Галилея к открытию Кеплера.
35 Л. Ольшки. Цит. соч., т. III, с. 84.
36 «Крайней дерзостью,— говорит Сагредо,—всегда казалось мне стремление сделать человеческую способность разумения мерой того, что природа может й умеет сотворить, тогда как наоборот, нет ни одного явления, как бы мало оно ни было, к полному познанию которого могли бы прийти самые глубокомысленные умы» (I, 199). Когда Сальвиати хочет резко упрекнуть Симпличио, он говорит: «Я начинаю думать, что вы до сих пор принадлежите к числу тех, кто, желая узнать, как происходит что-либо и приобрести сведения о явлениях природы, обращается не к лодкам, самострелам и артиллерийским орудиям, а уединяется в кабинете для перелистывания оглавлений и указателей в поисках, не сказал ли чего-либо об этом Аристотель...» (I, 284). Заметим, впрочем, что и для Сальвиати для получения сведений о явлениях природы надо, собственно говоря,, тоже удалиться от природы, только не в «кабинет», а в «мастерскую» или на «полигон».
37 Цит. по кн.: Ю. Л. Белый, Цит. соч., с. 84. Ср. также следующее .высказывание Коперника: «Основные мотивы, при помощи которых физиологи пытаются доказать неподвижность Земли, основываются, главным образом, на наблюдаемых явлениях, но все это должно уже в самом начале рухнуть, поскольку мы сами в такой же степени поддаемся иллюзиям ( apparentia )». Цит. по кн.: Польские мыслители эпохи Возрождения. М., 1960, с. 37.
38 «...Можно с уверенностью сказать, что если бы даже не было вообще никаких сомнений в коперниканской астрономии с религиозной точки зрения, любой здравомыслящий европеец, в особенности же склонный к эмпирическому мышлению, объявил бы ее сумасбродным призывом принять скороспелый плод бесконтрольного воображения и предпочесть его надежным выводам, накопленным постоянно, на протяжении веков и подтвержденным опытом человеческих чувств... Современные эмпирики, если бы они жили в шестнадцатом веке, первыми выставили бы на посмешище новую философию Вселенной». Е. Burtt . Op . cit ., p . 25. Коперник, говорит Бруно, «крепко стоял против потока противоположной веры и, хотя почти не был вооружен живыми доводами, все же, подбирая ничтожные и заржавевшие обломки, которые можно получить из рук древности, заново их обработал, соединил и настолько спаял свое учение более математической, чем естественнонаучной речью, что превратил дело, бывшее смешным, низким и презираемым^ в дело почтенное, ценимое, более вероятное, чем другое, противостоявшее ему». Дж. Бруно. Диалоги. М., 1949, с. 55—56.
Читать дальше