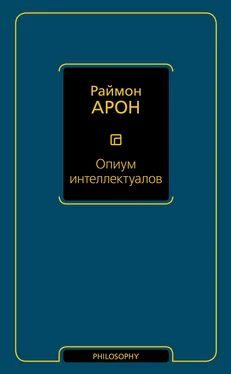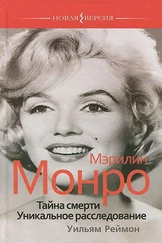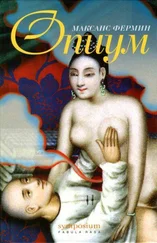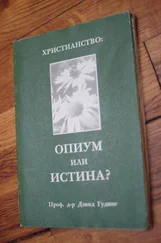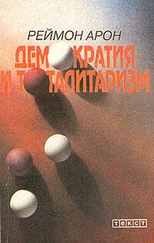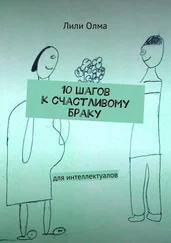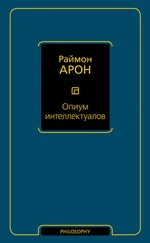Было бы неверно возражать, что в наше время религия логично становится светской с того времени, когда, согласно доминирующей философии, в рациональной организации планеты разыгрывается судьба человечества. Сам по себе атеизм подтверждает, что не содержит и не отрицает идеологического догматизма. Отделение церкви от государства, основа своеобразного величия Запада, не требует единогласной веры в двойственную природу человека. Оно не требует даже, чтобы большинство граждан продолжали верить в Откровение. Принцип отделения церкви продолжает существовать в век неверия, лишь бы только само государство не считало себя ни воплощением одной идеи, ни свидетелем истины.
Пророчество, может быть, есть душа любого действия. Оно предъявляет обвинение миру и утверждает достоинство разума при неповиновении и ожидании. Когда правители, гордые свершившейся революцией, присвоили себе пророчество, чтобы создать собственную власть и вызвать удивление врагов, возникает светская религия, с самого начала обреченная на бесплодное превращение в ортодоксию или растворение в безразличии. Люди Запада остались слишком христианами, чтобы обожествлять временный мир. Но каким образом советские доктора права смогут проявить свое усердие? Если действительность удовлетворяет живущих в ней, время возмущения и мечтаний прошло. Если эта действительность разочаровывает их, как узнать, не есть ли это дорога к тысячелетнему царству?
Светская религия будет еще какое-то время сопротивляться разъедающему ее противоречию. На Западе она представляет собой лишь этап к исчезновению надежды.
Судьба интеллектуалов
Весьма заманчиво нарисовать на створках диптиха два противоположных, контрастирующих образа интеллектуалов Советского Союза и Франции.
Во Франции многочисленные писатели и эксперты окажутся в стороне: инженеры не признают легитимность и благотворность власти менеджеров или финансистов, литераторы возмущаются интригами политиков и жестокостью полиции. Они чувствуют себя ответственными за несчастья народа: голодающих индийских крестьян, бессовестно эксплуатируемых чернокожих Южной Африки, угнетенных всех рас и классов, бывших коммунистов, преследуемых Маккарти, священников-рабочих, отвергающих решения Ватикана.
В странах народной демократии литераторы и эксперты подписывают резолюции против тех самых людей и событий, которые вызывают гнев их западных коллег: перевооружение Германии, приговор Розенбергам, заговор Ватикана и Вашингтона против мира и т. д. Они сохранили право на возмущение, но в ущерб капиталистическому миру, который у них никогда не было возможности объективно узнать и увидеть. Они говорят «да» окружающей их действительности, они отвергают другую, далекую, тем более что близкая к коммунизму интеллигенция в свободной Европе совершает точно противоположные поступки.
Легко можно обрисовать третий образ – бывшего западного коммуниста или антикоммуниста, который поддерживает те же ценности, что и коммунисты, но осуждает буржуазные демократии, больше приверженные своему идеалу, чем народные демократии. Он подписывает все резолюции – за Розенбергов и против советских лагерей, против перевооружения Германии и за освобождение венгерских, румынских или болгарских социалистов, против марокканской полиции и против подавления мятежа в Восточном Берлине 17 июня 1953 года. Иногда он охотно подпишет резолюцию, например, против советских лагерей потому, что подчиняется логике борьбы и замечает качественное и количественное различие между сталинскими и буржуазными репрессиями.
Я сомневаюсь, чтобы какие-нибудь из трех категорий интеллектуалов – коммунистов из Москвы, коммунистов или прогрессистов из Европы, антикоммунистов из Вашингтона, Лондона и Парижа – были бы удовлетворены своей судьбой. Я сомневаюсь, что советская интеллигенция так же встроена в режим, как это кажется издалека, а французская интеллигенция такая же мятежная, как о ней думают или думает о себе она сама.
Интеллектуалы двух империй – Советского Союза и Соединенных Штатов – отличаются друг от друга, хотя это различие другое, оно связано с режимом, насажденным государством. Им не предлагается ни другая идеология, ни другое государство.
Это кажущееся единодушие не является результатом тех же самых методов и не выражается в тех же самых формах. Американский образ жизни есть отрицание того, что европейский интеллектуал подразумевает своей идеологией. Американизм не выражается системой понятий или предложений, он не знает ни коллективного спасителя, ни завершения истории, ни определяющей причины становления, ни догматического отрицания религии. Он сочетает почитание конституции, уважение частной инициативы, гуманность, внушаемую сильной и нечеткой верой, весьма безразличной к соперничеству церквей (беспокоит только католический «тоталитаризм»), преклонение перед наукой и производительностью. Американизм не содержит ни детальной ортодоксии, ни официальной версии. Этому обучает школа, а общество делает его обязательным. Это и есть, если хотите, конформизм, но конформизм, который редко бывает тираническим потому, что не запрещает свободных дискуссий на темы религии, экономики или политики. Без сомнения, конформист, симпатии которого связаны с коммунизмом, чувствует тяжесть коллективного осуждения, даже при отсутствии репрессий. Человек не должен подвергать сомнению образ мыслей или институтов, которые считаются неотъемлемой частью национальной идеи, не становясь подозрительным преступником против патриотизма.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу