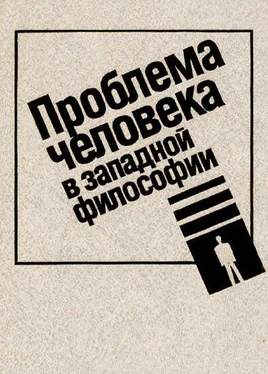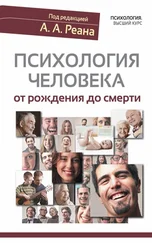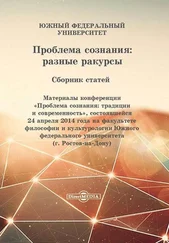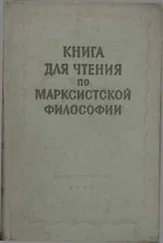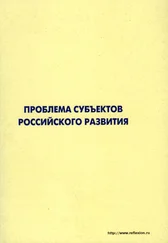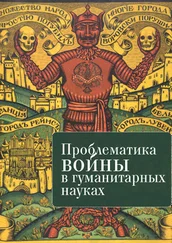Т. е. первичен акт представления, распределяющий роли между представляющим и представленным. Ср. выше прим. 213.
«Рассуждение о методе для хорошего направления разума и отыскания истины в науках» (франц.). Первоначальное заглавие: «Проект универсальной науки, которая могла бы возвысить нашу природу до ее наивысшей степени совершенства».
Начиная с данного подзаголовка следует не перевод, а краткое изложение заключительных разделов «Европейского нигилизма»: Внутренняя связь принципиальных позиций Декарта и Ницше; Сущностное определение человека и существо истины; Конец метафизики; Подход к сущему и отношение к бытию; Онтологическое различие; Бытие как априори; Бытие как «идея», как «благо», как обусловление; Истолкование бытия как «идеи» и идея ценности; Проект бытия как воли к власти; Различение бытия и сущего и природа человека; Бытие как пустота и как богатство (Der europäische Nihilismus…, S. 165–232).
Христианско-платоническая «справедливость», по Ницше, — хилая добродетель слабых. Ей противоположна кипучая «справедливость» силы, которая сама себя оправдывает (см. «Человеческое, слишком человеческое» I 26; 238; «Воля к власти», § 259), — суровая «праведность» воли к власти, поднимающаяся над добром и злом, пренебрегающая «мелочным» различием между истиной и ложью ради торжества «самой жизни». Справедливость тут — праведная страстная несправедливость, см. «Предисловие» 1886 г. к «Человеческому, слишком человеческому» (§ 6): «Тебе следовало бы научиться понимать необходимую несправедливость во всяком За и Против, несправедливость как неотделимую от жизни, саму жизнь — как обусловленную перспективой (возрастания жизни. — В.Б. ) и ее несправедливостью».
См.: Хайдеггер М. Учение Платона об истине: «То agathon переводят поверхностно толкуемым выражением „добро“. Понимают под ним обычно „нравственное добро“, которое так называется потому, что соответствует нравственному закону. Такое толкование выпадает из круга греческого мышления, хотя Платон, включив agathon в число идей, дает повод мыслить „добро“ „морально“ и в конечном счете причислить его к „ценностям“. Возникшая в 19 в. на почве господствующего в Новое время представления об „истине“ категория ценности есть позднейший и одновременно беспомощнейший потомок понятия agathon. Поскольку „ценности“ и разложение на „ценности“ несут на своих плечах метафизику Ницше, и именно в категорической форме „переоценки всех ценностей“, этот философ, для которого всякое знание исходит метафизически из „ценностей“, является самым разнузданным платоником во всей истории западной метафизики. Понимая ценность как из „самой жизни“ исходящее условие возможности „жизни“, Ницше меньше исказил сущность agathon, чем те, что охотятся за бесплотным призраком „самоценных ценностей“» (в сб.: Работы М. Хайдеггера по культурологии…, с. 193–194. Перевод наш. — В.Б. ).
Heidegger M. Über den Humanismus. Frankfurt a. M.: Klostermann, 1975, S. 5-47.
Настоящая работа — просмотренный для публикации и в некоторых местах расширенный текст письма, отправленного Хайдеггером осенью 1946 г. французскому философу Жану Бофре, который в связи с выходом брошюры Ж.-П. Сартра «Экзистенциализм есть гуманизм» (Sartre J.-P. L’existentialisme est une humanisme. P., 1946) спрашивал Хайдеггера о перспективах обновления смысла этого стертого понятия. Первая публикация — Hеidеgger M. Piatons Lehre von der Wahrheit. Mit einem Brief über den Humanismus. Bern, 1947, S. 53-119. Наш перевод выполнен по изданию: Heidegger M. Über den Humanismus. Frankfurt a.M.: Klostermann, 1975.
Хайдеггеровское «бытие» таково, что воздействовать на него или распоряжаться им невозможно; хотя всякое человеческое действие идет от полноты или, наоборот, от пустоты бытия, но направлено оно всегда только на сущее.
«Захваченность Бытием для Бытия» (франц.).
«Мысль есть захваченность бытия» (франц.).
«Вовлеченность в действие» (франц.).
Историк философии захочет уличить здесь Хайдеггера в некорректности; действительно, у Платона есть места, где он ясно говорит, что философия есть противоположность практическому «искусству», техне (см., например, диалог «Соперники» 137 ab). Но само это противопоставление показывает, какому контексту принадлежит платоновское понимание философии. А с другой стороны, подлинная философия, по Платону, есть опять же «техне» особого рода, занятое чистой истиной и приносящее мало практической пользы (Филеб 58 с). У Аристотеля философия — тоже «техне» (Метафизика XII 8, 1074 b 11; Этика Никомахова I 1, 1094 а 7; 18; Политика III 12, 1282 b 14), и мышление рассматривается в контексте «пойэсиса», художественно-технического изготовления, и «праксиса», действий и поступков (Метафизика VII 7, 1032 b 15 слл.; Этика Евдемова II 11, 1227 b 30).
Читать дальше